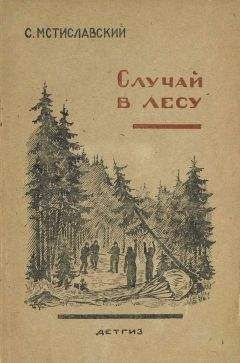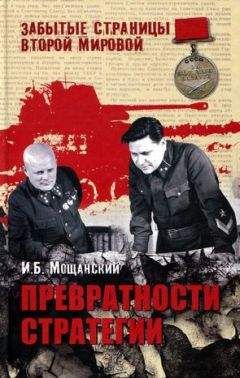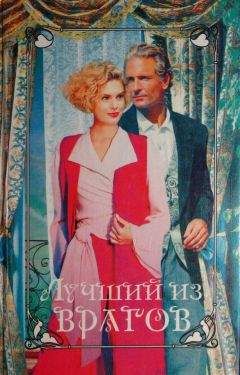Таня, зажмурившись, часто закивала головой, спрятала лицо в ладони.
– Спасибо, Сережа, – проговорила она глухо, не поднимая головы. – Я больше всего боялась именно этого... что ты услышишь обо мне плохое и...
– Нет, – сказал Дежнев. Ему очень хотелось сейчас рассказать про «другие обстоятельства», про Борькиного покойного братишку, про то, что вначале была жалость, ничего больше, остальное пришло потом, – но рассказывать об этом ей было нельзя, об этом он мог бы рассказать другу, но не ей, сейчас это было бы не по-мужски, было бы как попытка оправдаться, переложить на Елену всю вину за случившееся.
Таня продолжала сидеть опустив голову, он протянул руку – коснуться ее волос, плеча, – но не донес, отдернул, встал и прошелся по комнате, поскрипывая сапогами.
– Не знаю, впрочем, – сказала она вдруг, не глядя на него. – Может быть, совсем наоборот, так было бы легче... понятнее, во всяком случае.
– Что было бы понятнее?
– Ну, если бы ты там... поверил хоть на день, хоть на час! По крайней мере, хоть какое-то объяснение, а так... – Она шмыгнула носом, по-девчоночьи утерев его тыльной стороной руки, и отвернулась совсем, чтобы он не видел ее лица.
– Объяснение есть, – сказал Дежнев, – я могу все рассказать, если ты считаешь...
– Нет-нет, не надо! – Таня затрясла над плечом растопыренными пальцами. – Я ведь в общих чертах знаю – от Дядисаши. Одинокая женщина, вдова, потеряла единственного ребенка, конечно, трагическая история, кто же спорит. Но меня, Сережа, ты все-таки предал, будем уж называть вещи своими именами.
Дежнев медленно обернулся от окна, оттягивая пальцем ставший вдруг тесным воротник кителя.
– Предал? – переспросил он тихо. – Насколько понимаю, мы в равном положении, тебе не кажется?
– О, нет, – она тоже повернула голову и теперь смотрела ему в глаза. – Не совсем в равном, Сережа, у меня нет ребенка от Кирилла, нет и не могло быть, потому что я – представь себе – не была с ним близка. И вообще ни с кем, понимаешь? Потому что я иначе понимала то, что было у нас с тобой. Впрочем, ты не помнишь, конечно! Стоит ли таскать в памяти всякие глупости – например, как сидели тогда до утра в парке – если я чего-то не путаю, я еще сбежала в тот день с уроков, а ты спрашивал меня о шиповнике над могилой Изольды, смешно, правда?
– Откуда в тебе столько жестокости, – едва проговорил он побелевшими губами, – я все эти годы...
– Ах, конечно! Все эти годы ты был Тристаном, только обо мне и думал – «жди меня, и я вернусь», – Боже, как трогательно. Он шептал ее имя за минуту до атаки! Ну а то, другое, получилось как-то так, развлекся на досуге; с кем не бывало... а потом уж ничего не поделаешь – все-таки гвардии офицер, еще бы, у вас судов чести еще не ввели? Нет, ты не подумай, что я тебя осуждаю, нет-нет, все правильно, ты так и должен был поступить. Мне просто понять хочется – я-то куда для тебя девалась на это время?
Он подошел ближе – ей показалось, что сейчас он ее ударит, она поняла вдруг, что ждет этого, жаждет, но глаза его вдруг приняли какое-то затравленное выражение, он сел и опустил голову на скрещенные руки. И тогда она сорвалась с места и, обхватив его плечи, стала исступленно целовать в затылок, повторяя сквозь слезы:
– Сереженька, милый, я не хотела – прости меня Бога ради, – я не то совсем хотела сказать, ну что ты, родной мой...
Утром он отвез ее в Вену. В пути барахлил мотор, они подзадержались, и когда приехали на КПП военно-автомобильной дороги, машина на Прагу и Дрезден уже была готова к отправке. Так что они и попрощаться толком не успели – обнялись, постояли молча, понимая, что неизвестно когда и где теперь увидятся, и он подсадил ее через борт. «Студебекер» раскатисто рыкнул мотором и тронулся, словно только и дожидался этой пассажирки.
Стоя в кузове, держась за дугу каркаса, Таня смотрела на Сергея, смаргивая слезы, пока могла еще различить его среди других офицеров. Уже набрав ходу, грузовик вдруг резко тормознул, и она, не удержавшись на ногах, потеряла равновесие и с размаху села на что-то твердое и угловатое.
– Полегше, подруга, – тут же сделали ей замечание. – Разбомбишь мне инструмент – снова чинить придется...
Голос показался знакомым, Таня оглянулась – и не поверила своим глазам.
– Надежда? – спросила она ошеломленно. – Ты что здесь делаешь?
– Танька, нехай я лопну! А ведь еще издаля посмотрела – вроде, думаю, похожа, да нет, откудова ей взяться...
Калькарская Надька, тоже одетая в военное, в ладно пригнанной по фигуре солдатской, без погон, гимнастерочке, перелезла через поклажу и облапила Таню, удушая ароматом дешевой парфюмерии.
– ...Скажи, как родную кого увидала, чесслово!
– Вы разве не там остались? – Таня все еще не могла прийти в себя от удивления. – Кирилл Андреевич говорил, что не думали уезжать...
– Ясное дело, не думали! Так ведь заставили, паразиты, наших оттудова геть всех повывозили до лагерей, это рассказать – сдохнешь, не поверишь, чего там было! Ты-то как? А Кирилл Андреич где?
– Тоже здесь. Наверное, судить будут.
Надька жалостливо охнула, взявшись за щеку, потом махнула рукой.
– А, может, еще и обойдется! Сама-топрошла фильтрацию?
– Прошла, как видишь, если без конвоира еду.
– Тоже в Прагу?
– Нет, дальше. В Хемниц.
– А я до Праги только, гастроль у нас там. Я ведь с ансамблем тут кантуюсь, в гарнизонах наших давали представления, теперь вот в Прагу поехали. Меня аккордеон оставили забрать – поломался, а он трофейный, наши чинить не взялись, отдали австрияку. Тот в срок не управился. Лев Борисыч мне и говорит – ты, говорит, оставайся, заберешь и догоняй на попутке...
– Это ты, что ли, на аккордеоне играешь?
– Тю, да откуда! Я там если сплясать чего, в заднем ряду, или в хоре подтянуть – ну, сама понимаешь, на подхвате.
– И Аня с тобой?
– Ты что! – Надька сделала большие глаза. – Ее ж беляки в Брюсселе похитили и монашкам продали за большие деньги...
– Какие беляки, какие монашки? Ты что, Надежда, с похмелья?
– Не веришь, так почитай, на вот – у меня газета с собой...
Надька расстегнула офицерский планшет и достала многократно сложенную, изрядно уже потертую на сгибах газету. Осторожно, удерживая от ветра, Таня развернула лист на коленях и сразу увидела крупный заголовок «Верните мою сестру!». В статье рассказывалась история двух сестер-комсомолок, угнанных фашистами из родных мест. Испив в неволе всю меру унижений и издевательств (злобная хозяйка-немка за малейшую провинность заставляла часами стоять на коленях перед портретом Гитлера), сестры были освобождены войсками союзников, но напрасны оказались их надежды на скорое возвращение домой: в лагере для «перемещенных лиц» от девушек стали требовать отречься от любимой Родины, подписать заявление о нежелании репатриироваться. Но даже брошенные в карцер, отважные комсомолки оставались непреклонны и в конце концов были переданы представителям советской репатриационной миссии в Брюсселе. Враг, однако, не отступался. С помощью белоэмигрантского отребья была организована подлая провокация, сестер схватили прямо на улице, и старшая бесследно исчезла в мрачных подземельях католического монастыря. Лишь чудом удалось спастись младшей... «Я гневно требую от бельгийских властей и их англо-американских покровителей: верните Родине ее дочь, мою сестру Анну!» – так заканчивалась статья, подписанная Надей Харченко.
– Ну, Надежда, теперь тебе только романы писать, – сказала Таня, возвращая газету. – На самом-то деле что там у вас получилось?
– Что, что! В Брюсселе мы из лагеря умотали – беляки эти и подсобили, душевные такие старички... Дура я, надо мне было с Анькой в монастырь устроиться, там и работы-то всего за дитями приглядывать, а я не пошла, охота была в городе пожить. Не была в Брюсселе?
– Нет, мы прямо из Голландии сюда.
– Сами, что ль? – Надька недоверчиво уставилась на нее, разинув рот, потом расхохоталась во всю глотку. – Ей-бо, придурки, кто б другой сказал – не поверила б, чесслово! Я хоть Брюссель этот успела повидать, ну город, ну красотища, сдохнуть можно... Вот и долюбовалась, пока не сцапали. Нас там человек десять таких набралось, выловленных. Кого по местожительству выследили, кого так, на улице, взяли – наших-то ни с кем не спутать, по одной ряшке за километр видать, что из советских. А были, которых бельгийцы-коммунисты выдали, им такая установка дана, говорят, по партийной линии. Словом, набралось! Но обращение было ничего, неплохое, врать не буду. После перевезли нас с Брюсселя в другой лагерь, в сельской местности, там с месяц пожили – оттудова уж не выпускали, стерегли крепко. А как война кончилась, посадили на машины – и сюда. Отправляли – ну чисто свадьба, машины все в зелени, разукрашены, через населенные пункты проезжаем – люди кричат, флажками машут. Советских там любят, ничего не скажу, красные флаги всюду, а портретов товарища Сталина так больше, чем ихнего этого, толстомордого, ну что с сигарой. А как Эльбу переехали, тут уж нас сразу за проволоку, и давай выкладывай – где была, чем занималась, как Родину продавала... Да тебе-то что рассказывать!