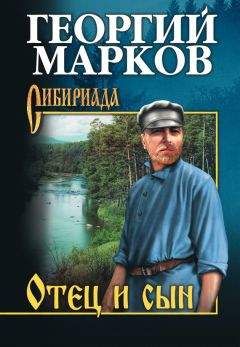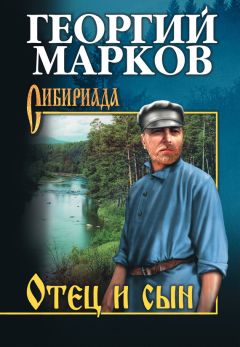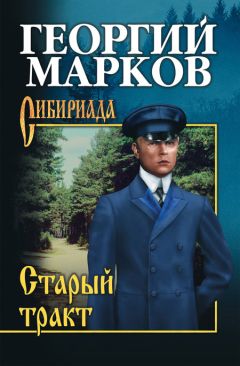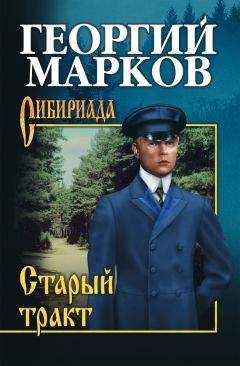Тарасюк не успевает еще закончить свое повествование о Полине, — слышится голос Емельяна Куделькина:
— А моя-то, Аграфена Петровна, как ушли мужики на войну, взяла в колхозе вожжи в свои руки и, смотри ты, четвертый год в районе впереди всех колхоз наш ведет… — Голос Куделькина звучит то нежно, то гордо.
Атмосфера предельной откровенности, с какой ведется разговор, подчиняет себе одного, другого, третьего. Соколков долго борется сам с собой. Ему тоже хочется сказать что-нибудь о Наташе, но она ведь не жена ему, они пока просто друзья. Преодолевая стыдливость, он говорит, нарочито покашливая:
— Кхе! Моя знакомая девушка, кхе, Наташа, сразу за два курса в университете сдавала…
Солдаты выражают свое удивление вслух. После Вити холостяки смелеют — говорят и говорят без умолку. Они называют имена своих любимых с той доверчивостью, которая бывает только среди людей, близких друг другу.
В разговоре не принимает участия только Шлёнкин. Больше того, он хмурится от этого разговора. Он бы и сам сказал о своей любимой теплые слова, но это такая тайна, которую он доверил лишь Вите Соколкову.
Шлёнкин любит врача батальона, капитана медицинской службы Екатерину Тарасенко. Любит давно, с момента ранения на границе, которое нанес ему шпион Соловей.
Больше месяца пролежал тогда Шлёнкин в батальонном околотке. Рана оказалась неопасной, отправлять его в армейский госпиталь за сорок километров не было никакой надобности. Тарасенко уговорила Тихонова оставить раненого в батальоне и всецело положиться на ее знания и опыт.
Каждый день по нескольку раз появлялась она в околотке — всегда веселая, бодрая. Вместе с ней в землянку врывался запах хороших духов. Она внимательно осматривала рану Шлёнкина, расспрашивала о самочувствии, выписывала лекарства, давала различные наставления.
Шлёнкин видел, что после той вьюжной ночи он вырос в глазах окружающих. Не скрывала своего уважения к нему и Тарасенко. Она не раз вспоминала финскую войну, и всегда это звучало так: вот какие люди воевали с белофиннами, они тоже, как и ты, не думали о себе — Родина и воинская честь были для них превыше всего.
Шлёнкину почему-то было и стыдно и приятно от рассказов врача. «Что уж такого особого сделал я? — размышлял он. — Соловей полез с ножом, я его по башке раз-другой трахнул, потом за сигнальную проволоку ногой дернул, тревогу поднял. Доведись до любого, то же самое сделал бы».
Но Тарасенко словно говорила ему: «Что сделал бы на твоем месте другой — неизвестно. А ты вот шпиона задержал, кровь свою пролил. Значит, можешь ты постоять за святое дело. Можешь!»
И это будто оковы снимало с его души. «Можешь ты, можешь!» — трепетала в нем каждая жилка, и он чувствовал, как всем своим существом тянется к новым, трудным делам и подвигам.
Когда лечение приближалось к концу, Шлёнки и почувствовал, что ему невыносимо стыдно обнажать свое тело перед врачом. Это пришло неожиданно и очень встревожило его.
Шлёнкин прятал свое чувство, старался по-прежнему быть с врачом немногословным, сдержанным, как положено по уставу.
После разгрома немцев на Курско-Орловской дуге японцы стали вести себя менее назойливо. Правда, японские авиационные разведчики по-прежнему довольно часто пересекали советскую границу. Ловили наши пограничники и диверсантов, но выводить свои части на границу и бряцать оружием на глазах советских воинов японцы опасались.
Батальон Тихонова большую часть времени жил тогда в пади Ченчальтюй. Солдаты и офицеры напряженно учились. С заводов поступало новое оружие. Фронтовой опыт день ото дня становился богаче. Чтобы не отстать от требований войны, надо было работать, не щадя сил и времени.
Днем на стрельбищах и плацах царило большое оживление. Вечером люди стремились в клуб. Драматический кружок репетировал то одну пьесу, то другую.
Шлёнкин виделся с Тарасенко ежедневно, но о своих чувствах молчал, хотя молчать становилось все тяжелее и тяжелее.
Зимой сорок третьего года драмкружок выехал в Читу на смотр красноармейской художественной самодеятельности. В Чите прожили пять дней. После долгого пребывания в сопках Чита поразила Шлёнкина многолюдней и яркостью электрического света, заливавшего просторные валы окружного Дома Красной Армии.
Шлёнкин будто окунулся в какой-то волшебный мир, о котором раньше приходилось только читать в книгах: сцена, любимая, народ, аплодисменты. Нет, дальше молчать он был не в силах…
Тарасенко выслушала его сбивчивое признание совершенно спокойно. Можно было подумать, что такие признания ей доводилось слушать каждый день.
— Ну к чему все это, Терентий Иванович?! Полюбить меня там, в сопках, ей-богу, не трудно. Я одна у вас, и не мудрено, что кажусь совершенством. Неподходящее место и неподходящее время выбрали вы для любви… — В тоне ее была добродушная усмешка друга и суровая назидательность старшего.
— Вы единственная… — начал было Шлёнкин.
Тарасенко замахала руками:
— Нет, нет, таких слов не слушаю! И вообще, давайте перенесем наш разговор на более поздний срок. Пусть он состоится через год после войны. Мир многое изменит…
— Через год после войны? Пусть будет по-вашему! — прошептал Шлёнкин, уничтоженный и одновременно окрыленный.
Больше о любви они не говорили. Тарасенко оставалась по-прежнему приветливой, внимательной, словно и не было между ними этого необычного разговора.
…Беседа солдат о женах и любимых прерывается внезапной командой:
— Привал на саносмотр!
Шлёнкина передергивает от этой команды. «Батюшки, только бы не она», — проносится у него в мыслях. Но Тарасенко уже приближается к роте. Вместе с ней идут фельдшер и два санитара. «Хоть бы фельдшеру осмотр поручила», — думает Шлёнкин.
Тарасенко идет быстрой, стремительной походкой. На плече у нее матерчатая зеленая сумка с красным крестом. Русые волнистые волосы выбились из-под фуражки, рассыпались на плечи. Лицо, руки, шея загорели, и потому серые с синим отливом глаза кажутся ярче и больше обычного. Стремительность походки придает ее маленькой стройной фигуре черты постоянного порыва вперед.
Начиная с двадцать второго июля, когда батальон снялся с пади Ченчальтюй и начал свой небывалый марш по степям Монголии и Китая, Тарасенко живет в неусыпных хлопотах. Первая ее забота — сберечь ноги бойцов. Ноги для солдата пехоты — это все равно что крылья для птицы. Вторая забота — уберечь людей от тепловых ударов, не допустить желудочных болезней.
Через день-два врач, пользуясь привалами на отдых, осматривает ноги у солдат, расспрашивает их о здоровье.
Желание Шлёнкина не сбывается. Не фельдшер, а сама Тарасенко входит в круг бойцов третьей роты. Шлёнкин смотрит на нее застенчивым, влюбленным взглядом. Девушка здоровается с ротой, обводит солдат глазами, словно ищет кого-то. Увидев Шлёнкина, она кивает ему и чуть улыбается.
— Прошу, товарищи, снять обувь и рубашки.
Тарасенко никогда не приказывает, но бойцы знают, что просьбы врача равнозначны приказу.
— Вчера ведь только, товарищ капитан, осматривали, — говорит один солдат, распутывая сбившиеся обмотки.
— Смотрите у меня: если будете пить воду из каждого ручейка — на каждом привале буду осмотры производить, — говорит Тарасенко и смеется.
— Тогда батальон, товарищ капитан, в месяц до Хингана не дойдет, — отшучиваются бойцы.
— Опять вы неправильно портянку навернули. Видите, какая на пятке краснота образовалась.
Тарасенко подзывает санитара, поручает ему показать солдату, как нужно навертывать на ногу портянку. Через минуту ее голос слышится в другом месте.
— Ремень у винтовки вам надо подтянуть. Иначе на плече потертость появится.
Шлёнкин снял ботинки, гимнастерку и рубашку, сидит в тоскливом ожидании. Ремни от винтовки и вещевого мешка отпечатались на его мясистых плечах. На ногах, натруженных ходьбой, вздулись жилы. Ступня и пятки задубели, пыль пробилась сквозь ботинки и обмотки и въелась в кожу.
— А, черт, хоть бы помыть эти коряги, — озлобленно шепчет Шлёнкин, косясь на свои оголенные ноги.
— Да ничего, Терёша, ты же не Аполлон Бельведерский в музее, а солдат пехоты на войне, — успокаивает Соколков друга.
— Неудобно, если б не она… — морщится Шлёнкин.
Соколкову так и хочется подшутить над Шлёнкиным, но он замечает, что тому не до шуток. Шлёнкин корчится, подтягивает ноги под себя, концом портянки поспешно протирает грязные пальцы. Тарасенко приближается, ее голос слышится совсем рядом. Она осматривает Соколкова. Тот о чем-то разговаривает с ней весело и громко. Они оба смеются. Шлёнкин почти не улавливает их разговор. Поведение Соколкова кажется ему, по крайней мере, странным. Как можно в таком виде о чем-нибудь разговаривать с врачом, да еще так весело?