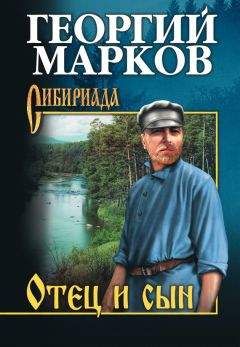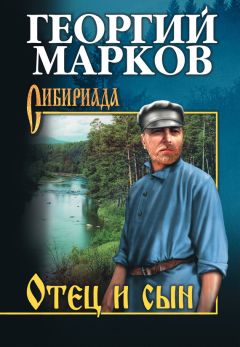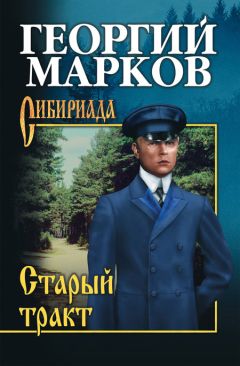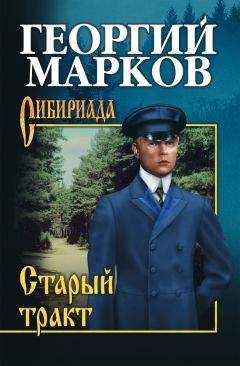Шлёнкин не успевает ответить сам себе на этот вопрос. Он вздрагивает от прикосновения к плечу прохладных пальцев врача.
— Ну-ка, Шлёнкин, покажите лямки своего вещевого мешка, — говорит Тарасенко, Шлёнкин покорно подает вещевой мешок, Тарасенко ощупывает лямки пальцами.
— Да разве можно так, товарищ Шлёнкин? Вы смотрите: широкие, удобные лямки у вас свернулись в жгуты, вы же натрете ими плечи! Сейчас же расправьте лямки…
Тарасенко произносит все это строго, требовательно. Но вдруг голос ее становится глуше, в нем слышатся другие, теплые ноты:
— Ну, как самочувствие, Терентий Иванович?
— Самочувствие? Отличное самочувствие. Безлюдие осточертело. Скорее бы перемахнуть Хинган.
— Теперь уже недалеко… А желудок не беспокоит? Воды из речек много пьете?
— Все в порядке, товарищ капитан, — поспешно отвечает Шлёнкин. Он облегченно вздыхает, полагая, что осмотр закончен. Но Тарасенко опускается на колени.
— Дайте посмотреть ноги.
Шлёнкин немеет. Он молча вытягивает ноги и стыдливо опускает глаза. Девушка умелыми, быстрыми движениями рук ощупывает икры. Ему кажется, что она осматривает его ноги не секунды, а долгие часы — осмотр изнуряет его. Врач встает.
«Как хорошо, что они прошли там, в Забайкалье, суровую школу. Без подготовки не выдержать бы им этого перехода», — думает Тарасенко, но говорит совсем о другом:
— Вы знаете, Терентий Иванович, сегодня утром, даже сама не знаю почему, мне вспомнилась оперетта «Корневильские колокола». Я шла и беспрерывно напевала себе под нос. Одно место никак не могла припомнить. Вы наверняка его хорошо знаете…
Упоминание об оперетте словно вырывает Шлёнкина из-под власти кошмарного сна. Трепетное ощущение любви поднимается в его душе. От прежнего смущения, заставляющего цепенеть все члены, не остается и следа. Шлёнкин преображается на глазах всей роты.
— Как же не помнить «Корневильских колоколов»! — говорит он, слегка играя своим бархатистым баском. — Это же, товарищ капитан, не оперетта, а прелесть. Выше ее я ставлю только «Сильву». А место, о котором вы говорите, я помню великолепно…
— Ну, спойте мне, пожалуйста, — просит Тарасенко. Шлёнкин с готовностью откашливается, вполголоса поет. Девушка, улыбаясь, смотрит на него, шевелит губами, стараясь запомнить мелодию.
Они вспоминают известных певцов страны, говорят о лучших спектаклях. Шлёнкин попыхивает своей неизменной трубкой с профилем Мефистофеля. Но Тарасенко принуждена прервать разговор — ее ждут в других ротах.
Она уходит. Шлёнкин провожает ее долгим, неотрывным взглядом. Глаза его сияют, ему хочется совершить что-нибудь такое хорошее, такое геройское, чтобы поняла она, какая сила пробудилась в его душе. «Бои, что ли, скорее начинались бы!»
— А любит она тебя, Терёша, — шепчет Соколков, выждав, когда Тарасенко отошла подальше.
— Ты думаешь? — горячо спрашивает Шлёнкин, и в глазах его вспыхивает беспокойный огонек.
— Убежден. Если бы не любила, другие бы речи вела с тобой.
Шлёнкин долго молчит. Молчит и Соколков.
— Эх, Витя, — говорит Шлёнкин, — ничего ты, брат, не знаешь…
Он охвачен таким порывом, что готов гору свернуть.
— Да уж с твое-то, наверное, знаю, — чуть обиженно говорит Соколков. — А только счастлив ты. Завидно даже. До Наташи-то посчитай — сколько километров.
— Ну, брат, неизвестно еще, до кого дальше, — задумчиво глядя куда-то в степь, говорит Шлёнкин, вспоминая Читу и свои объяснения с Тарасенко.
Большой Хинганский хребет — это скопище голых скал, громоздящихся в чудовищном беспорядке.
У подножия этих скал обрываются звериные тропы. Цепкая степная трава, расстелившаяся на тысячах километров сухой земли, отступает перед неподатливостью каменных глыб. Только дождь да ветер оставили на них свои отметины: ветер отполировал бока, дождь продолбил узкие канавки для стока. Даже страшно подумать, сколько времени потребовалось дождю и ветру на эту работу, — миллионы лет!
Большой Хинганский хребет окутан туманом. Туман ползет из ущелий непрерывным потоком, как дым из кратера непотухшего вулкана.
Местами хребет так высок, что вершины его скрываются в тучах, которые лежат неподвижными распластанными телами, словно прикованы навечно тяжелой цепью.
Выше этих туч поднимаются только орлы. Остальная птичья братия, силой и характером послабее, гуртуется по впадинам и ущельям.
Большой Хинганский хребет — это особое царство на земле — царство камней, ветров и дождей.
На подступах к Хингану батальон Тихонова сворачивает километров на двадцать к северу, вливается в поток войск, группирующихся для прыжка через Хинган.
Впереди движутся саперы. Японцы минировали проходы через перевалы, завалили расщелины, по которым можно проложить дорогу, ворохами битого камня.
Саперы шаг за шагом прокладывают путь. Воздух содрогается от взрывов: там, где бессильны лопата и лом, помогает взрывчатка. Она разносит на мелкие частицы могучие скалы, заваливает землей и щебнем глубокие ямы, пробивает новые проходы через неподступные перевалы.
По приказу командующего армией батальон Тихонова движется в одной колонне с артиллерийским полком из резерва Главного Командования. У артиллеристов тягачи, грузовики, легковушки самых различных марок. Но командующий знает: на Хингане не один раз придется перетаскивать и оружие и машины на руках. Без помощи пехоты не обойдешься…
Предвидения командующего вскоре сбываются. Чем глубже войска вползают в скопища Хинганских гор, тем круче становятся перевалы.
Во второй половине дня начинаются первые серьезные испытания. Проложенная только что саперами дорога скачет на одну скалу, потом на другую, на третью. Моторы ревут, как стадо взбесившихся быков. Автомашины едва доползают до середины первой скалы, сдают назад.
Тихонов шутит над артиллеристами. Его лошади и волы, на которых передвигается имущество, продовольствие и боеприпасы батальона, тяжело поводя боками, стоят уже на вершине скалы.
Пока артиллеристы обходятся без помощи пехотинцев и своими силами втаскивают автомобили, пушки и тягачи на крутой подъем. Солдаты еще не утомлены, форсирование гор им в новинку. Они тащат машины на веревках, весело ухая, задорно покрикивая, пересыпая говорок крепким словцом.
Восхождение на вторую скалу несравненно труднее. Теперь не шутит и Тихонов. Лошади скользят по камню, встают на колени, волы дико хрипят, ложатся на бок. Постромки у повозок рвутся, не выдерживая тяжести.
Комбат приказывает распрячь лошадей и волов. Их втаскивают на вершину скалы на веревках. Затем люди впрягаются в повозки и на себе завозят их.
К вечеру объединенная колонна пехотинцев и артиллеристов поднимается на четыре ступени, но хребет еще не заканчивается, впереди виднеются новые скалы.
Солдаты и офицеры утомлены, искоса посматривают на ребристые горы, окутанные туманом…
Тихонов, Буткин и Власов подводят итоги дня: пройдено семь километров! По данным карт, скоро должна начаться долина, но немало еще потребуется трудов, чтобы дойти до нее.
Завтра батальон будет действовать увереннее и осмотрительнее. Сегодня люди работали горячо, но не соблюдалось правильное чередование рот на подъеме больших тяжестей.
В разгар беседы появляется Петухов. Он только что побывал в ротах. Радостные известия: семь лучших солдат подали заявление о вступлении в партию, среди них Прокофий Подкорытов, Викториан Соколков…
Петухов предлагает созвать закрытое партийное собрание. Минут через десять коммунисты небольшими группами тянутся к дальнему обрыву скалы, где их уже поджидает Петухов.
Начинает смеркаться. Сумрак ползет из ущелий, поднимается к вершинам скал, окутывает их. Высокое голубое небо темнеет, робким, неярким светом загораются первые звезды.
У солдат и офицеров уставшие лица и медленные движения. Дорого им стоили семь километров, пройденные сегодня. Они тяжело опускаются на землю, садятся, стараясь опереться на камни. Петухов низко склонился над листом бумаги, торопливо пишет. Буткин сидит неподалеку от него, молча смотрит на коммунистов, думает.
Осенью тысяча девятьсот сорок первого года он прибыл в падь Ченчальтюй. Во всем батальоне было тридцать три коммуниста. Теперь на партийное собрание явилось сто два человека. Каждого из них Буткин знает так, словно рос вместе. Многим он давал рекомендации. А скольким он помог разобраться в простых и сложных вопросах!
Мелькают лица: сержант Коноплев, ефрейтор Остап Тарасюк, солдат Назир Кукенбаев, солдат Куделькин, ординарец комбата Трубка… Все они уже не те, что были два-три года назад.
Партия! Где только не видел твоих сынов Буткин! В глухой сибирской тайге, на лесах стройки Кузнецкого завода, в самом водовороте деревенской жизни лицом к лицу с озверелым кулачьем, во главе колхозов, перекроивших весь уклад сельского быта, в траншеях на самой границе и вот — на Хингане! На Хингане!