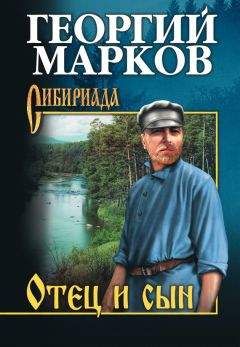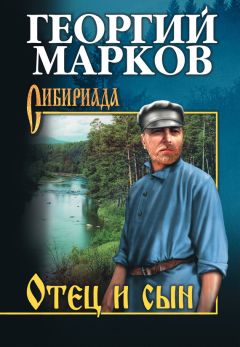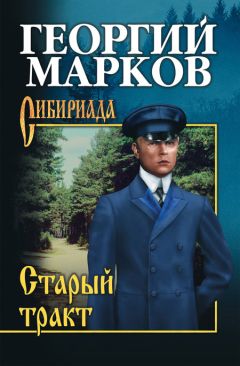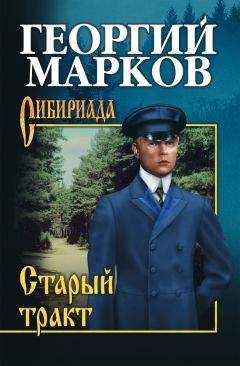Он поднимается, чтоб снять с плеча скатку и развернуть шинель. Боль в ноге затихает, но встать на нее он еще не может.
Вдруг неподалеку от него падает камень. Соколков снимает руку со скатки и быстро ложится на прежнее место. Над ним в темноте испуганно мечется какая-то птица. Кто же вспугнул ее? Подкорытов и Шлёнкин? Японцы? Ночной хищник?
Соколков прислушивается. От тишины звенит в ушах. «Должно быть, зверек вспугнул птицу», — думает он. Но опять где-то обрывается камень и катится со скалы, постукивая на выступах.
Вскоре Соколков настороженным ухом улавливает новые звуки: хруст, шарканье. Кто-то идет. Это, вероятно, Шлёнкин. Он ведь обещал прийти помочь выбраться к батальону. Но все стихает, и Соколков лежит, обеспокоенно думая: «Неужели прошел мимо?» Он решает крикнуть, но вовремя спохватывается — на голос могут прийти не только свои, но и японцы.
Месяц наконец пробивается сквозь облака и выплывает на чистое небо. В горах становится светлее. Соколков осматривает очертания скал. Они похожи на замки большого нерусского города.
«Удлиненная форма строений характерна для готического стиля», — вспоминает он фразу, вычитанную где-то в книге или услышанную когда-то давным-давно на лекции.
Рассматривая очертания гор, он успевает подумать о многом: университет, Наташа, мама с братишками и папа… Он умчался куда-то на запад страны восстанавливать разрушенные гитлеровскими извергами наши заводы.
Соколков видит, как на скале неподалеку от него вырастает силуэт человека. «Терёша, пришел все-таки!» Он уже взмахивает рукой, собираясь крикнуть, но видит, что на скале сразу появляются еще три силуэта. «Кто это? Наши или японцы?» — напрягая глаза, думает он, а сердце бьется все громче и громче.
Люди начинают говорить. Они говорят тихими гортанными голосами. Японцы! Соколков чувствует, как тело его охватывает озноб, а потом жар. Во рту становится сухо. Он прижимается к выступу скалы, прислушивается. Но ни единого слова невозможно понять в этом тарабарском языке! «И отчего я их языку в пади Ченчальтюй вместе с Власовым не попробовал учиться», — упрекает себя Соколков.
«Что же мне делать с вами? Трахну гранатой», — решает он. На душе его наступает спокойствие и ясность, руки перестают дрожать. Он забывает о боли в ноге и ползет, ползет ближе к японцам. Потом берет гранату, нащупывает на ней предохранитель. «Их же много, они окружат тебя, и тогда пропал… Ты лежи себе, пусть они пройдут восвояси», — словно кто-то нашептывает ему.
«Трус ты! Трус!» — кричит он сам себе и чувствует, как эти слова рождают в нем боевую страсть. Он умелым, натренированным движением руки спускает предохранитель и бросает гранату в японцев.
Раздается взрыв. Сотни крупных и мелких осколков от камней взлетают вверх и тяжелым градом обрушиваются на Соколкова. Один японец кричит истошным голосом, остальные молчат. Соколков бросает еще одну гранату. Теперь смолкает крик. Град камней обрушивается с новой силой на Соколкова. Он в изнеможении опускает голову, открывает рот и лижет горячим языком влажный, обточенный ветром голый валун.
Над Хинганом занимается заря…
Подкорытов и Шлёнкин поднимаются на скалу и, присмотревшись, устанавливают, что совсем неподалеку от них строчит японский пулемет.
— Надо обойти самураев и уничтожить, — говорит Подкорытов.
Начинается трудный, опасный для жизни спуск с крутой скалы. Шлёнкин несколько раз срывается, но, к счастью, падает удачно на гладкие, как асфальтовые ступеньки, выступы.
Подкорытов движется почти бесшумно. Он опытен, ловок, и горы для него — дело испытанное. Он все время подсказывает Шлёнкину, оберегает его: «Не скатись, Терентий! Держись вправо! Давай руку! Назад — тут пропасть!»
— Ну и глаза у тебя, Прокофий! Кошачьи! — восхищается Шлёнкин и думает: «С настоящим товарищем попал. Какой человек!»
Местами они идут по ровным площадкам, будто выстланным специально. В эти минуты Шлёнкин размышляет о себе.
Ему и страшно и в то же время он чувствует себя приподнято, чуть ли не торжественно.
До странности удивительно, что это он, Терентий Шлёнкин, тот самый Шлёнкин, который разъезжал с ревизиями по заготовительным конторам и лавкам и боялся выпить стакан сырой воды, ныне идет навстречу опасности, может быть, даже смерти. И идет не просто по приказу, а влекомый собственным сердцем.
«Душу другую, что ли, вставили мне… Падь Ченчальтюй… Она научила… Егоров… Тихонов… Витя Соколков… Друг… Большой друг…»
В его сознании мелькают лица товарищей и сослуживцев. Их бесконечная вереница, почти весь батальон.
— Ну как, Прокофий, приняли тебя в партию, нет? — спрашивает шепотом Шлёнкин, когда Подкорытов оказывается с ним плечом к плечу.
— А как же. Сам комбат высказался. — В голосе Подкорытова нескрываемая гордость.
— А ты не замышляешь, Терентий, насчет вступления в партию? — осведомился Подкорытов.
— Замышляю, да вот не знаю, смогу ли быть коммунистом, — говорит Шлёнкин.
Подкорытов молчит. Ему понятны сомнения Шлёнкина. И он не сразу пришел к решению о вступлении в партию. В долгие часы раздумий он с пристрастием спрашивал себя: а по силам ли тебе это ответственное звание? А сможешь ли ты быть всюду впереди и не щадить сил, а когда надо — и жизнь в борьбе за дело коммунизма?
Они подходят, точнее подползают, к огромной скале, с вершины которой японцы ведут огонь.
— Сворачиваем налево, — распоряжается Подкорытов вполголоса.
— А справа не лучше? — нерешительно выражает свое мнение Шлёнкин, видя, что до скалы здесь гораздо ближе.
— Запомни, голова: северные ветры и дожди острее и с северной стороны всегда бывает больше выступов, — говорит Подкорытов.
Откуда же знать Шлёнкину эти премудрости? Чтоб знать такое, надо провести жизнь в горах.
— Веди, — произносит он и ползет за Подкорытовым, часто натыкаясь в темноте на каблуки его ботинок.
Действительно, выступов у скалы на этой стороне оказывается много. Подкорытов и Шлёнкин местами поднимаются вверх, как по лестнице. Японский пулемет бьет короткими очередями. Как губителен для наших его огонь! Подкорытов знает, что пулемет посылает поток пуль в расположение бивака. Возможно, что там есть уже убитые и раненые. Надо во что бы то ни стало подавить японскую огневую точку. И потому быстрее — вперед!
Шлёнкину приходится напрягать все силы, чтобы не отстать от Подкорытова. Он расцарапал до крови руки, рассек, наскочив на острие камня, нижнюю губу, брюки его изодраны в клочья, глаза застилает пот, но Шлёнкин не сдается.
Японский пулемет выпускает длинную очередь — не меньше половины ленты — и замолкает.
Подкорытов делает прыжок куда-то в темноту. Шлёнкин на минуту теряет его из виду. Он торопится, старается нагнать Подкорытова — без него он как слепой без поводыря.
Подкорытов шарит по земле, ругается с вывертами и присказками, как только он один умеет в батальоне.
— Ушли! Куда они ушли? Ты смотри, вся земля гильзами усыпана! Сколько, поди, наших полегло! — И Подкорытов опять сыплет непечатными словами.
Вдруг слышится «ччи-ирк!» — звук, который появляется от скольжения железа по камню.
— Стой здесь, я пойду наперехват, — говорит Подкорытов.
Шлёнкин не совсем понимает, что произошло, и замысел Подкорытова ему неясен.
— А ты сам-то куда идти думаешь? — спрашивает он.
— Куда, куда! Слышишь, японцы удирают! — сердится Подкорытов на недогадливого Шлёнкина.
— Ну, валяй, я буду тут, — виновато говорит он, так и не поняв плана, возникшего у Подкорытова.
Тот исчезает мгновенно, словно проваливается в пропасть. Шлёнкин садится, вытирает рукавом пот с лица, настороженно прислушивается.
Появляется месяц, небо светлеет, становится виднее в горах. Воздух содрогается от разрывов гранат, от стрельбы, от эха, которое долго перекатывается по ущельям. Отзвуки боя доносятся то с одного места, то с другого.
Жжвик! Жжвик! — слышит Шлёнкин над головой. Кто-то стреляет рядом с ним. Возможно, Подкорытов. А может быть, это японцы заметили его, Шлёнкина, и стреляют в него? Шлёнкин быстро ползет, прячется в выступе скалы, плотно прижимается к ее прохладному боку.
Он сидит не двигаясь, руки и ноги его затекают, спину ломит. Пули уже не свистят над его головой, но страх обуял Шлёнкина — ему мерещатся японцы и впереди и позади.
Слышится хруст, — вероятно, идет Подкорытов. Шлёнкин приободряется, но выходить из своего гнездовища не спешит. Когда Подкорытов подойдет поближе — он подаст голос. Шаги все отчетливее. Слышно даже, как Подкорытов дышит с шумом и хрипом.
«Что он так? Поймают его японцы на мушку», — тревожно думает Шлёнкин. Наконец в сумраке появляется фигура. Шлёнкин присматривается, и что-то чужое, не подкорытовское, угадывается в этом качающемся из стороны в сторону человеке. Шлёнкин сильнее втискивается в щель, раздвоившую скалу, и смотрит, смотрит изо всех сил на приближающегося к нему человека. Нет, это не Подкорытов! Прокофий строен и высок, а этот идет согнувшись. Он дышит так тяжело, словно где-то поблизости раздувают кузнечные мехи. Подкорытов, как бы он ни устал, какую бы тяжесть ни нес, умеет управлять своим дыханием.