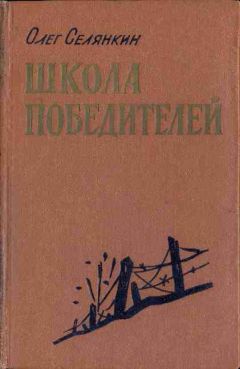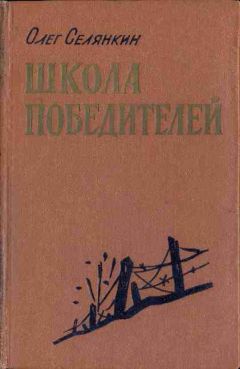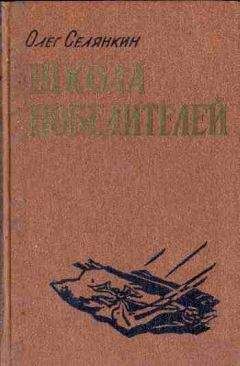Шофер замолчал, губы локотенента разжались и произвели долгий шипящий звук.
— Бине, бине [4],—радостно закивал шофер. Он опять улыбнулся мне мелкими, ослепительно белыми зубами и ткнул ключом в направлении колеса. — Робот. Понимаш? Репараре. Понимаш?
— Не понимаю, — сказал я.
— Нуй понимаш? Русеск слова «робот» нуй понимаш? — Он даже отступил на шаг и недоверчиво посмотрел на меня, но тут же удивление сменилось хитроватым блеском в глазах: — Ехат. Ти. Понимаш? Баштанька, Николаев. Робот, ауто репараре, ехат.
Обеими руками, округлым, почти балетным движением он показал, как мы отремонтируем скат, прищурил глаза и посмотрел в сторону солдат.
Я понял этот взгляд.
Пустынная дорога, изгибаясь, уходила вдаль. Шелестела кукуруза. Трое солдат, опираясь на винтовки, смотрели на меня печальными глазами.
Окажись я в подобном положении на нашей прифронтовой дороге, будь передо мной не румын в этой дурацкой фуражке, а веселый, может быть чуть хмельной, водитель газика или «ЗИС» а, я бы сам предложил ему свою помощь, а потом мы пошли бы петлять на этом газике по пыльным полевым дорогам, обмениваясь последними новостями и солдатскими анекдотами — анекдотами того особого сорта, которые можно рассказывать не во всякой мужской компании, — и все было бы превосходно. Но передо мной был завоеватель, черт его разбери совсем, и в этих его усиках, и в фуражке было что-то преднамеренное, вызывающее, что имело своей целью подчеркнуть превосходство «западной цивилизации» над азиатской, населенной варварами, Россией. В голосе его звучало презрение ко мне, и к моей небритой физиономии, и к моему русскому языку, и я охотно заехал бы разок- другой в его холеную, выбритую морду и пошел бы своим путем, но за моей спиной было трое солдат, и любому из них ничего не стоило один раз нажать на спусковой крючок, один только раз, и выбросить на пыльную дорогу стреляную гильзу, и человеческая жизнь — моя жизнь! — стоила сейчас нисколько не больше, — и я опустил глаза, и прикусил губу, и сказал:
— Черт с тобой. Робот.
— Бине, бине. Харош рус, сильный рус.
Он не жалел для меня улыбок, этот чижик, и теперь улыбка была почти покровительственная. Он даже вытянулся, намереваясь похлопать меня по плечу, но, перехватив мой взгляд, отдернул руку.
— Харош рус, — повторил он с меньшей убежденностью.
Хотя я и не слишком торопился, мы довольно быстро склеили камеру и смонтировали скат. Когда последняя гайка была затянута и домкрат убран, трое солдат полезли в кузов. Шофер одобрительно кивнул мне головой и взмахом руки показал на юг.
— Ехат. Николаев. Харош?
Я колебался. Вероятно, лучше всего было бы отказаться: спутники, и особенно этот жуликоватый шофер, казались не слишком надежными. С другой стороны, предложение было заманчивым: меня мутило от одной мысли об оставшихся пятнадцати километрах. Николаев мне, конечно, был ни к чему, но с румынами я через двадцать минут буду в большом селе на полпути до Баштанки (я отчетливо помнил по карте его название — Зеленивка), а оттуда до Кулишовки, где находился Балицкий, оставалось не больше трех километров.
А, была не была!.. Я перевалил через борт и устроился на длинной, вдоль всего кузова, откидной скамье. Машина загудела, дернулась, и в квадратном проеме брезента быстро побежала пыльная степная дорога.
Солдаты, опираясь на свои винтовки, в упор разглядывали меня своими черными загадочными глазами. Сперва я не обращал на них никакого внимания, соображая, как мне не пропустить Зеленивку и вовремя выскочить из машины, но скоро это тупое, беззастенчивое любопытство, эти три нары нацеленных на меня глаз надоели мне.
— В Баштанку? — спросил я и для большей выразительности махнул вперед по движению машины.
Солдаты молчали.
— Из города? — Я показал в направлении города.
Не мигая, солдаты продолжали рассматривать меня.
Черт бы их совсем побрал! Сидят три этаких олуха, три деревянные куклы, как в музее: хоть подойди к любому из них и дерни его за нос!
Я достал свой дешевенький, купленный еще до войны портсигар с кремлевской башней на крышке, вынул сигарету и тут с удовольствием отметил, что внимание солдат сконцентрировалось теперь на металлической коробке.
Я протянул им раскрытый портсигар.
— Штиу? [5] — это было, кажется, единственное знакомое мне румынское слово.
Три руки столкнулись над портсигаром, три сигареты исчезли под черными дремучими усами, три дымка взвились над зажженной спичкой.
— Хорош табачок? Бине?
Румынский крестьянин должен знать толк в табаке, а это были дрянные немецкие эрзацсигареты, набитые смесью подкрашенных капустных листьев с табачной крошкой. Но, к моему удивлению, моложавый, сидевший возле кабины солдат — как я понял позднее, его звали Лупу — одобрительно закивал головой, снова перевел на меня свои большие печальные глаза и вдруг заговорил быстро и неразборчиво, одними шипящими и взрывными звуками, явно обращаясь ко мне и рассчитывая на то, что я все, до последнего слова, понимаю.
Он произнес несколько фраз, его перебил солдат постарше, потом вмешался третий, и вот все трое, размахивая руками, перебивая и отталкивая друг друга, принялись что-то кричать и о чем-то спорить. Теперь глаза их сверкали, и дубленые, обветренные лица, только что похожие друг на друга, как лица двойников, стали обычными человеческими лицами.
Однако я не понимал ни слова и, силясь постигнуть, что послужило предметом их спора, невольно пожалел, что не занялся хоть слегка румынским языком, когда с помощью наших пленных его стал штудировать Николай Евсевонович.
Кстати, не были ли эти мои попутчики из того батальона, что стоял в Соломире?
Мы проехали, вероятно, не больше трех километров, как камера опять спустила. Машина остановилась, солдаты сразу, будто по команде, замолчали, и окаменевшие их лица опять стали до удивления схожими; над бортом показалась гигантская фуражка шофера. Уже повелительно, будто своему подчиненному, он крикнул: — Робот! Бистро-бистро! Понимаш.
Теперь, уже совершенно один, я разобрал скат и склеил камеру. Шофер, с минуту постояв надо мной, уселся на крыло машины. Трое солдат расположились на краю грейдера. Локотенент не подавал никаких признаков жизни.
Потом мы проехали километров пягь, солдаты с прежним жаром пытались объяснить мне что-то и так же одновременно замолчали, едва машина снова остановилась. Затем мы проехали еще три и еще два километра, я латал очередную камеру, больше похожую на обрывок лоскутного одеяла, мы опять грузились в машину, и опять мои попутчики принимались что-то втолковывать мне. Наконец, когда мы снова закурили и Лупу, взяв портсигар, принялся восхищенно разглядывать изображение Кремля, мне удалось спросить:
— Ваш батальон не в Соломире? Батальон востра… Соломир?
— Со-ло-мир? — напряженно переспросил солдат и вдруг довольно закивал головой: — Да, да, Соломир.
Я знал, что командиром этого батальона был подполковник Радулеску, но, убей меня бог, я совершенно не представлял, как сказать по румынски «подполковник». Я помнил только, что Николай Евсевонович, разговаривая с румынами, частенько прибавлял к знакомым словам окончание «ул», и тогда оказывалось, что это и есть румынское слово. И я попробовал:
— Командирул батальонул подполковникул Радулеску?
Солдат смотрел на меня непонимающими глазами.
— Радулеску. Штиу? Командирул? — И тут я наконец вспомнил правильное слово: — Команданци, да? Радулеску?
Он брезгливо сморщил лицо и затряс головой, показывая, как плох и неприятен подполковник Радулеску.
Я утвердительно кивнул: да, да, штиу.
Мне было хорошо известно, что представляет собой батальонный командир Радулеску и как дружно ненавидят его солдаты, и тут же я отметил про себя, что сведения наши были не очень точны: видимо, где-то под Соломиром дислоцировался еще один батальон этого же полка.
Вероятно, и Лупу понял меня. Он вдруг широко и добродушно улыбнулся, извлек из-под скамьи засаленный вещевой мешок и, порывшись в нем, вынул огромную, явно не очень свежую лепешку. Стараясь не просыпать ни крошки, он разломил ее на четыре части и щедро оделил каждого из нас. Это была черствая, очень черствая кукурузная лепешка, привезенная ли из дому, спеченная ли на ротной кухне, но, надо полагать, долго и тщательно хранившаяся. Все четверо мы впились зубами в этот окаменевший хлеб и не без усилий принялись прожевывать его, и Лупу извлек еще флягу, наполненную кислым, очень кислым красным вином, и мы по очереди отхлебывали из нее, и машина прыгала на ухабах, а мы тряслись на своих скамейках. Этого со мной никогда в жизни не было, и я не мог даже предполагать, что такое может быть, может случиться, но я сидел во вражеской машине, с вражескими солдатами и смотрел на них, ел их хлеб и пил их вино, и они мне нравились, и я улыбался им и думал о том, что будет жаль, если этих парней убьют, а ведь убить их могу и я…