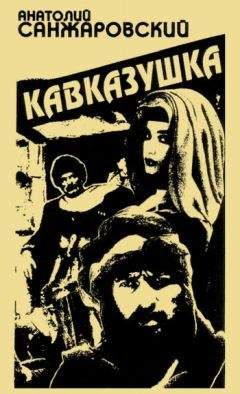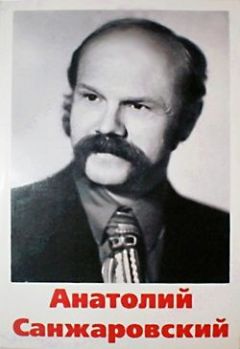– Ба-ба-ба! Что я вижу, Генацвалечка! – загремел Заваров, тяжело дыша с долгой беготни. – Утром на кухню не явилась… На обед ни крошульки, а у неё плясочки до упаду! Умучился, исказнился весь, пока в бегах рыскал всюду, всё искал… Фу-у!.. Мы так, Генацвалечка, не уговаривались. Ей-бо! – И съехал на плаксивый тон: – Женечка, веточка ты моя! Радость ты моя всепланетная! Давай, родненькая, на кухоньку. Боевой народище ведь кормить через час! Да без твоего харчо в обед меня самого слопают! Перспективушка!..
С жалостью взглянула Жения на Заварова.
Отводя лицо, сбивчиво пробормотала:
– Нэ-эт, дорогой… Ложка-поварёшка командуй ти сама… У мнэ, – потёрла в пальцах записку, – задани боэвой… Вэзу ранени на госпитал!
Заваров дыхание остановил – так подсекла его эта новость.
– Зарезала без ножа! Убила без выстрела! – прошептал Заваров, тупо глядя перед собой. – Даже баба вырвала открепление от котлов. На повышение стриганула! Снова я один одним… А за что ж мне такая кара? Я как чувствовал… Мы с тобой масло и вода… Масло и вода не соединяются. Не по судьбе, знать, вместе… Чего лукавить… Му́ка с тобой была. Да мука сладкая!.. Ты ловкая. Такая в море кинется и не промокнет… Ты чего хотела, добилась, взяла. Ближе к боевому делу! Не зря всё пела: если падать, дорогой Заваров, то лучше с коня, чем с осла. А я никак не выкружу на боевую дорожку… Падать мне с осла?.. Женечка… Генацвалечка… – Заваров беспомощно разметал руки. – Да что я буду делать без тебя?!
Жения ободряюще подмигнула:
– А вари харчо! У тбэ хорошё получайси… Я расказвал, ти записвал… Читай… дэ́ли… У тбэ хорошё получайси…
– Я только воду могу хорошо вскипятить. А всё прочее у меня отвратно.
Жения мелко поклонилась Заварову, мол, чем же я ещё тебе помогу, и, толкнув Вано в локоть, пошла.
Остановившимися глазами Заваров пялился на мать с сыном.
Они всё больше отдалялись.
Вано как-то сразу выпал из поля его зрения.
Заваров видел одну Жению.
– Эх! Генацвалечка! – пропаще покачал он головой и запел-зажаловался.
Точней, он не пел, а по слогам проговаривал в тоске прилипчивую частушку, не теряя из виду Жению:
– Нога моя левая,
Чего хоча делая.
Не спит, не лежит,
А на улицу бежит…
Три машины с ранеными уже стояли у санбата.
Жения ласково провела пальцем по колковатой щеке сына.
– Не вешай низко нос, – сказала. – Не скучай. Я скоро… Мы скоро снова будем вместе. Поэтому я не говорю тебе прощай. До свиданья, сынок! К вечеру вернусь…
– До свиданья, мама… Лёгкой тебе дороги…
Неясная горечь разлилась в ней, и Жения, легонько оттолкнув от себя Вано – медали жалобно тенькнули, – быстро засеменила к ближней машине. Взялась за борт, ногу на лесенку…
– Сюда нельзя! Нельзя!! Нельзя!!! – заполошно зашептал ей в затылок тонкий, писклявый голос.
Жения обернулась – никого.
Она как-то растерянно улыбнулась и уже медленней перешла к соседней машине.
– И сюда нельзя! Нельзя!! Нельзя!!! – всё тот же голос.
"Не к добру это…"
Ей расхотелось ехать.
Однако она заставила себя подойти к третьей машине.
Занесла ногу на лесенку. Подождала, прислушиваясь.
Голоса не было.
Она взобралась. Слабо, в нерешительности помахала сыну.
Вано постеснялся поднять руку и лишь грустно, плохо скрывая огорчение, покивал.
Дорога была вся в нырках. В выбоинах.
Машины ползли по ним черепахами с каким-то жалобным, воющим пристоном.
Где-то в середине пути настиг немецкий самолёт. Уничтожил две машины с ранеными. Прямое попадание. И только третья машина, которая шла в голове и в которой ехала Жения, – среди раненых был там и грузин с обожженным лицом – благополучно добралась до госпиталя.
Начальник госпиталя, увидев входившую к нему в тесный кабинетик Жению, обрадовался:
– А-а!.. Те же люди в ту же хату!.. Ну-ну! С чем пожаловали?
Жения отдала записку.
Он прочитал. Почесал кончик носа:
– Придётся снова звать грузина…
– Зачэм? Я тепер понимай мала-мала рюски. На фронт учи…
– Значит, не зря ходили… Раз фронт научил, должны понять. Тут, – тряхнул запиской, – предписано…
Начальник запнулся.
– Да что я вам толкую? Раз вы теперь знаете по-русски, наверно, читали записку?
– Зачэм, кацо? – насупилась, сбычила глаза Жения. – Записка нэ мнэ. Зачэм читай я?
– Логично, – оживился начальник. – Тогда поясню. В записке предписано… Руководство приказывает препроводить Вас отсюда домой.
– Хачу часть, – тихо, но твёрдо возразила Жения. – Там син. Дом нэ хачу…
– Хочу… не хочу… Таких понятий не существует на фронте. Если надо, – начальник ещё раз тряхнул запиской, – значит, ладошку к виску. Слушаюсь! До железнодорожной станции Туапсе мы Вам найдём, мамаша, транспорт… За помощь Вас тут, – показал бровями на записку, – сердечно благодарят. Спасибо…
Жения не стала ждать обещанного транспорта.
Она побрела по старой знакомой дороге и заплакала.
"Неужели всё это подстроил Морозов? Я так верила ему… А он – на… Какой-то писулькой отогнал меня от Вано. Прямушкой в глаза скажи, разве я б посмела ослушаться военную власть? Никуда б не делась, подалась бы домой… Так хоть бы честь честью простилась с сынком… А то… так… Вроде шапочные знакомцы… До свидания – до свидания… Будто до нового дня расстались… Даже не обнялись, не поцеловались… Вот тебе раз… Из моря выплыла, в росе утонула… Наверное, я не так поняла Морозова?.."
В своё село Жения вошла поздним вечером.
Кругом всё было черно. Нигде ни огонёчка. Мёртвая тишина, словно жизнь из села вовсе вытекла…
И чем ближе подходила она к своей пацхе, ступала всё медленней, всё тяжелей. Боязно было ей взойти на холодный, шаткий порог своего домка, всеми забытого, зачужелого.
От калитки Жения насторожённо всматривается в свои окна.
О Боже!
Окна изнутри меркло светятся! Кто там? Кто?
Да никого там не может быть. Мерещится!
Подбежала Жения к крайнему окну.
На столе коптит лампёшка без стекла.
У печки хлопочет бедная мамушка Минандар.
Стороной, поди, узнала, что увеялась я к Вано, бросила свою Джангру, перебралась, родная, ко мне под крышу… И сколько я ни пропадала, жизнь в доме в моём не умерла… Жизнь продолжается!
Делать нечего. Надо жить дальше, надо жить… надо жить…
Жения уткнулась лицом в плетёную стенку избы.
Стенка была тёплая, живая…
Промигнули долгие годы.
Случается, при гостях достают внуки с комода коробку, где ратные и трудовые награды семьи. И больше всего дивятся гости не орденам-медалям, а всегда холодной, блёсткой бабушкиной пуле. Пуле бабушки Жении.
В ранге бабушки Жения давно. Да что бабушка! Тяни выше. Доехала уже Жения и до прабабушки Бог знает когда!
Многое из того, как ходила к сыну на фронт, выстегнулось из ума. Но пуля, едва не угадавшая в неё тогда, глубоко сидит в ней и ничем ту пулю не выковырнешь из памяти. Никогда не забудешь этот вечный сувенир войны.
Жения так и не дождалась с фронта мужа Датико.
Пал под Сталинградом.
А Вано миловала беда. Вернулся целёхонький.
Как вернулся, запрягли в бригадиры и по сегодня не выпрягли. То ли забыли, то ли понравилось.
Похоже, понравилось.
Бригадирствует Вано ладно. Косяком награды, премии… Только вон одна Выставка московская возьми отвали в подарок "Москвича". Катайся не хочу! Да когда раскатывать?
С зари до зари толкётся Вано в бригаде.
Чай – мудрый капризник. На него только в пачке спокойно и взглянешь. В пачке он не перерастёт, не загрубеет в день. Какой с корня взяли, такой и будет до второго пришествия.
У Вано самая большая в селе бригада. Ну что тут разособенного? Лягушка и та хочет, чтоб её болото было больше всех. Мечется Вано белкой. И в зиму и в лето перемены нету.
Ох, не перестоял бы участок у чинары!
А не пролежал ли лишнего под навесом уже собранный чай?..
Зазевался, совсем зазевался с удобрением! Копка же на носу…
Управиться бы в самую пору с формовкой, ох, управиться бы. Ничего не надо!
Сплошные охи да ахи у Вано.
Смотрит, смотрит на него старушка мать, вздохнёт и пошаталась с корзиночкой на плантацию. Годы её уклонные. Восемьдесят. Какая из неё помощница?
Да как усидишь дома, раз у сына такая неуправка?
Неуправка неуправкой, но у старушки и свой резон одной, именно одной пойти на чай.
Ей совестно самой себе сознаться, что не на чай она прежде всего ходит. На свидания с Датиком ходит. Только завидит свои чайные рядки, просквозившие невысокие холмы, защемит в груди, кинется на глаза пелена.
Остановится. Тихо поклонится холмикам.
«Здравствуй, Датико… Здравствуй, любимый…»
Это для молодых чайная плантация только чайная плантация и больше ничего.
А для Жении…
В этих холмах вся её жизнь с Датиком. Короткая, светлая. Как жизнь свечи.
По росистым утрам не вечно на этих холмах празднично сверкал под солнцем зелёным изумрудом чай. Когда-то здесь кисли-кручинились под малярийными дождями непроходимые чащобы. Насыпались люди с топорами, с цальдами. [30] Вымахнули леса, насадили чай. И Жения помнит, где какое дерево срубила, где какой пень выкорчевала вместе с Датиком. Помнит всё, всё, всё.