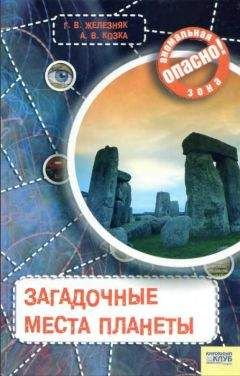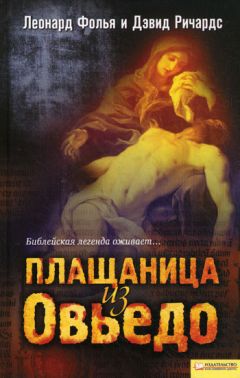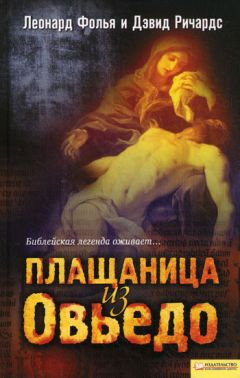ДАЖЕ АДИНА ПРИШЛА К ВЫВОДУ, ЧТО ДОКТОР заслуживает уважения, даже если частичной причиной этого уважения было печенье, которое раздавали после спектакля. Позже она сказала, что уже не помнила, когда видела печенье в последний раз, а Борис разозлился, потому что мы не стащили немного для него и Лутека. Когда София сказала, что это не было настоящим печеньем, Адина заметила, что, может, оно и не было печеньем, но определенно было чем-то достаточно похожим.
Мы все были вечно голодными. «Я помню, как мама кормила нас овощами, потому что считала их здоровой пищей», – однажды утром сказала нам Адина так, как будто увидела сон.
Мы стояли перед магазином, который торговал поясами от грыжи, и кто-то кричал на своих детей с крыши дома. Кто-то в доме у нас за спиной на первом этаже все твердил своей жене, чтобы та добавила воды в карбидную лампу. Кто-то еще вылил прогорклое масло с подоконника этажом выше, и масло расплескалось по тротуару перед нашими ногами.
Стараниями Бориса мы начали торговать продуктовыми карточками людей, которые умерли или выехали из гетто, и Борис решил, что лучшие места для торговли рядом с пунктами выдачи, куда приходили мамы с маленькими детьми, и оказался прав. Торговались они с Лутеком, потому что остальные были не в состоянии выдержать детские взгляды. Лутек выторговал деревянные башмаки одного мальчика, держа продуктовые карточки перед носом его матери со словами, что он лишь просит ее накинуть какую-нибудь вещь, и если она хотела участвовать в торговле, ей нужно было научиться ставить себя на место другого. Она взяла карточки и потратила их на брюкву, а ее сын отправился домой босиком. Правда, на улице уже теплело. София говорила, что уже конец мая, хотя Борис полагал, что еще апрель. Лутек примерил деревянные башмаки и сказал, что, как он и предполагал, они идеально подошли.
– А какая польза от него? – сказал Лутеку Борис, имея в виду меня. Но девочки сказали ему оставить меня в покое.
– Моя сестра терпеть не могла шпинат, – произнесла Адина. – А мне он нравился.
– Ты продолжаешь об этом болтать? – поинтересовался Борис.
– Бывало, моя мама говорила, что я должна быть такой чистюлей, чтобы даже коленки блестели, – сказала София.
Я видел, как вши ползают в проборе у нее в волосах.
– Ты и сейчас довольно чистая, – сказал я ей.
Лутек сказал нам, что теперь их квартира стала чище, потому что отец и некоторые другие носильщики начали топить печи деревянными опилками, которые, помимо прочего, были еще и дешевле угля.
– Разве они греют? – спросила Адина.
– А сейчас ничего не греет, – ответил он ей.
– Проблема не в печах, – сказал Борис. – Здравствуй, мать, – обратился он к женщине, которая выходила из магазина с тремя маленькими детьми, при этом все они рыдали. – Возможно, я мог бы чем-нибудь помочь?
Когда они ушли, у него в руках осталась тяжелая шаль.
– Она английская, – заметил он, показывая нам бирку. Они с Лутеком продолжали препираться, споря, мог ли он дать этой матери еще меньше.
Мы попрощались за час до комендантского часа, и я был уже на полпути домой, когда кто-то схватил меня за воротник.
– Ловильный крюк пришелся мне по душе, – произнес Лейкин.
– Приятно слышать, – ответил я, вырываясь. – Мне нужно домой.
– Тебе вечно нужно домой, – сказал Лейкин, как будто в этом крылась какая-то давняя тайна.
Он шел рядом и что-то жевал, не предложив поделиться со мной.
– Мои друзья с Крохмальной улицы хотят побольше знать о том, кто что делает на разных воротах, – сказал он. Он имел в виду желтую полицию, штаб-квартира которой переехала на Крохмальную в январе. Я знал об этом, потому что теперь Лутеку приходилось выбирать другой маршрут через малое гетто.
– А я тут при чем? – спросил я.
– Да создается впечатление, что ты шныряешь повсюду. Я всего лишь подумал, что ты подмечаешь разные вещи.
– Я не мастак замечать разные вещи, – ответил я ему.
– Ну, что-то ты все-таки замечаешь, – сказал он.
Я продолжал идти. Я остановился на остановке трамвая, но там никого не было. Должно быть, трамвай только ушел.
– Вся штука заключается в том, чтобы подмечать всякое разное, – сказал он. – Не то чтобы кто-то хочет как-то навредить общему делу.
Я подождал еще несколько минут и зашагал дальше. Верх одного из моих башмаков совсем оторвался и шлепал при каждом шаге.
– Кроме того, я мог бы дать знать о кое-каких возможностях, в случае если они появятся, – сказал он. – Например, сейчас имеется немного конфискованного лука, который еще никуда не сдали.
– Я думаю, что из нас двоих повсюду шныряешь скорее ты, – сказал я ему.
Он пожал плечами, как будто привык к подобным комплиментам.
– К слову, одной из обязанностей Еврейской Службы Порядка является принятие решений о том, какие квартиры подлежат реквизиции с целью последующего заселения новоприбывшими гражданами, – сказал он.
– Ну, наша квартира уже и так битком набита, – ответил я.
– О, в некоторых квартирах живут по пятнадцать-двадцать человек на комнату, – сказал он мне. – Ты и представить себе не можешь.
Я остановился и попытался перевязать тряпичные штрипки вокруг башмака. Я не мог поверить, что плачу из-за башмака.
– И, конечно, на повестке остается вопрос о том, что будут делать твои друзья, если узнают, что ты сотрудничаешь со Службой, – сказал он. И когда я не ответил и на это, он спросил: – Или ты им уже рассказал?
– Ну что ж, поразмысли об этом, – добавил он, когда мы прошли еще один-два квартала, а я так ничего и не ответил. А когда еще через полквартала я оглянулся, его уже не было.
ВОЗЛЕ МОЕГО ДОМА ПРОИСХОДИЛА КАКАЯ-ТО НЕРАЗБЕРИХА. Группка немцев что-то пинала в кругу, по-немецки ругаясь на то, что она пинала. Я еще никогда не слышал, чтобы люди так кричали. Прохожие останавливались посреди улицы, чтобы понаблюдать. Я не хотел подходить слишком близко, но они были прямо напротив моей двери.
Кто-то лежал на боку на брусчатке, и, когда он застонал от боли, я узнал отца. Я остановился, а потом протолкался ближе, как сделал бы в очереди на трамвай. Еще несколько ударов – и немцы, продолжая его окружать, перестали кричать и теперь разговаривали между собой. Пока они его разглядывали, он ползал у них под ногами. Он увидел меня, но виду не показал. Чувство, что я должен что-то предпринять, приподнимало меня на носках. Я и хотел, но, когда пришло время, у меня сдали нервы. Я остался стоять посреди улицы.
Он поднял вверх колени и согнул плечи, и один из немцев ударил его еще раз так, что он крутнулся вокруг своей оси. После этого он лежал, не двигаясь. Я подумал, что настоящий сын подошел бы к нему и начал сам кричать на немцев. Они перебросились парой замечаний с какими-то любопытствующими немцами на противоположной стороне улицы. Затем все начали толкаться и цыкать друг на друга, а потом ушли.
Несколько человек подошли к отцу, я был в их числе. Рукава и спина его пальто были пропитаны грязью. «Не надо», – сказал он, когда я нагнулся ему помочь. Сначала он встал на четвереньки, а затем поднялся на ноги, немного шатаясь, и пошлепал прочь от нашей двери.
Я последовал за ним. Его походка постепенно возвращалась к привычной. Он свернул на первом углу, к которому мы подошли, и мне удалось его нагнать. Я то и дело заглядывал ему в лицо. Он повернул и на следующем углу, и потом еще раз. Когда четвертый поворот вывел нас обратно к нашему кварталу, он остановился, чтобы убедиться, что немцы ушли. При входе в подъезд он заставил меня первым подниматься по лестнице.
Мама начала расспрашивать, что случилось, и он сказал, что его сбила повозка. Мама расстроилась и закипятила воды, чтобы помочь ему почиститься, и сказала, что его так могли и убить. Он просил ее пришить пару латок на локти моего пальто и пожаловался, что на мне все торчит лохмотьями. Он долго мыл лицо у раковины. Мама расстроилась еще и из-за его пальто, которое не только выпачкалось в грязи, но и лишилось одного из карманов. Она все ныла и ныла из-за подкладки, и в конце концов отец не выдержал и прикрикнул, чтобы она прекратила говорить о пальто, и это ее так испугало и задело, что она больше не произнесла ни слова.
Отец Бориса просунул голову в проем и спросил, все ли в порядке. Когда никто не ответил, Борис выкрикнул из коридора: «В него въехала повозка». Отец начал снова мыть лицо.
Какое-то время после этого случая каждый раз, когда я закрывал глаза, я видел его там на улице. Ночью я не мог уснуть из-за странных мыслей, которые продолжали роиться у меня в голове. Когда я проснулся, у меня во рту была кровь и мама сказала, похоже на то, что я прикусил язык.
Что-то изменилось в папе после этого случая, он несколько дней не ходил на работу. Сидел за кухонным столом у окна, повернувшись ко всем спиной, приложив к голове влажное полотенце, и держал на коленях чашку чая, которую сделала для него мама. Она говорила, что все в порядке и мы просто должны ненадолго оставить его в покое. Иногда он смотрел на меня так, как будто немцы выбили всю смелость из нас обоих. Когда мы с Борисом выходили из квартиры и я попрощался, он легонько мне кивнул.