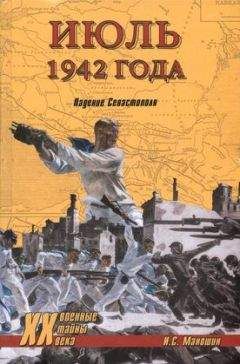Младший лейтенант посмотрел на меня не столь безучастно, как прежде. Помолчав, он ответил.
– Отец – инженер.
– Политические взгляды? До революции, естественно.
Русский пожал плечами.
– Он не занимался политикой. Сочувствовал партии «народной свободы», конституционным демократам. В восемнадцатом был, разумеется, против Брестского мира.
В его словах мне послышалось одобрение. Лист, прикрыв рукою рот, зевнул. Плохо зная русский, он понимал едва ли четверть сказанного. Фрау Воронов усмехнулась. Подозреваю, ее папаша тоже не был в восторге от Брестского мира. Но она бы не стала говорить об этом посторонним. Ни советским, ни немецким. Мне сделалось любопытно, появилась тема, было за что зацепиться, проявить интерес к человеку, установить контакт. Я иронически заметил:
– Следовательно, он выступал за войну и мечтал о водружении креста над храмом Святой Софии в Константинополе?
Русский негромко проговорил:
– Он был против оккупации и расчленения своей страны.
– Что? – не выдержал Лист, чуть-чуть приподнявшись в кресле. Я задал русскому новый вопрос.
– И что же с ним случилось? Где он теперь?
– Работает инженером. В эвакуации.
– Репрессирован не был?
Губы лейтенанта едва заметно дрогнули. Горькая усмешка или что?
– Три ареста. Повезло, остался жив.
– Другие родственники?
– Два брата отца убиты в Гражданскую войну. Один был расстрелян в ЧК, другого зарубили петлюровцы. Во время погрома.
– Еврейского? – вмешалась фрау Воронов, бросив в сторону Листа весьма выразительный взгляд.
Я посмотрел на нее с укоризной. «Простите», – пробормотала она. Лист приподнялся опять. Губы русского снова дрогнули.
– Еврейского, сударыня. Если это так важно для вас.
Фрау Воронов возмущенно всплеснула руками. С явной надеждой на Ширяева. Я уточнил:
– Но евреем он, полагаю, не был?
– Нет, он просто носил очки и ненавидел… подлость.
Лист опять зевнул. Вряд ли он понял последнее слово. Впрочем, даже если и понял. Будучи практиком, он, как и я, проявлял равнодушие к арийско-семитским противоречиям. Я спросил:
– В эмиграции родственники есть?
– Не знаю. Возможно, и есть.
В целом родственные связи Старовольского были вполне удовлетворительны. Появлялась надежда, что время не будет напрасно потрачено. Он был, конечно, излишне сентиментален, зачем-то сказал о «подлости», но это вполне простительно. Каждый имеет право на маленькие недостатки. Есть вещи более принципиальные.
– Как вы оказались в Красной Армии? Полагаю, по мобилизации?
Губы русского дрогнули. В третий раз. Он помолчал, обдумывая ответ. Потом усмехнулся, на сей раз вполне отчетливо. Усталой и обреченной улыбкой.
– Если бы не призвали, пошел добровольцем.
Лист неспешно встал, сделал два шага и присел на краешек стола, прямо перед пленным. Милая фрау Воронов прошипела по-русски: «Сволочь». Подобный тон ее не красил, в нем послышалось что-то змеиное. Я вздохнул.
– Вы так сильно ненавидите Германию? Или национальный социализм?
Он не ответил. Лежавшая на колене кисть медленно сжалась в кулак. Фрау Воронов налила воды в стакан и залпом его осушила. Ее нервы железными не были. Но железных женщин не стоит водить в рестораны. Пустая трата времени и денег – даже в том случае, если они согласятся на то, что вы хотите.
– Где получили звание? – спросил я, резко меняя тон.
– В училище, – ответил он кратко.
– Каком?
– У вас на столе документы.
– Дерзите?
Он промолчал. Я взглянул на фрау Воронов и быстро отвел глаза – столь неприятным вдруг стало ее лицо. Лист вернулся в кресло и отгородился от нас взятой со стола коллаборантской газетенкой «Голос Крыма». Не думаю, что ему вдруг захотелось ознакомиться с туземной прессой, скорее оберштурмфюрер пытался незаметно подремать. Я добавил в голос мягкости.
– Хорошо. Я умею читать. Кем вы были до войны?
– Учился в политехническом.
– Мечтали стать инженером? Как отец?
Младший лейтенант насупился.
– Нет, филологом. Как дядя. Но инженером нынче лучше.
– Почему? – удивился я искренне. – Вас смущало засилье марксизма в гуманитарных науках?
Он снова не ответил. Я подумал, что пора послать его к Ширяеву. Просто чтобы поучить уму-разуму. Легко корчить героя, когда с тобой вежливо беседует офицер во флотском мундире, предлагающий сигареты и угощающий водой в присутствии очаровательной женщины. Перед азиатскими рожами ширяевских подручных это гораздо сложнее. Однако я сдержался.
– Доучились?
– Не успел.
– Странно. Времени было достаточно. Вы уже, прямо скажем, немолоды.
– Был отчислен.
Фрау Воронов презрительно фыркнула, чем вызвала любопытство Листа, который на секунду показался из-за свободной крымской прессы.
– За что? – полюбопытствовал я. – Академическая неуспеваемость? Вы нерадивый студент? Нехорошо. Или за родственников?
Ответом было молчание. Я вновь подумал о Ширяеве. Но пока что беседа меня развлекала.
– Готов побиться об заклад, что вы не любили советского строя. – Я с удовольствием употребил славянский генитив при отрицании, на что способен далеко не всякий русский, не говоря о совершенно неспособных к этому богемцах или вовсе не знающих падежей болгарах. – И отец ваш тоже. Готов спорить. Но при этом, несмотря ни на что, он был совслужащим и работал на эту власть.
Мне было интересно, что скажет младший лейтенант. «Он служил стране и своему народу»? Тогда можно будет напомнить об отношении этого народа к таким, как он и его папаша. Ответ оказался другим.
– Он просто работал. По специальности. Не всякий имел такую возможность. Семья.
– Следовательно, ему всё было безразлично? – спросил я быстро. – И не окажись он в эвакуации, он точно так же работал бы на рейх?
Он не ответил. Я повысил голос, чем заставил Листа вторично вынырнуть из-за газеты. Фрау Воронов потянулась к графину.
– Так да или нет?
– Полагаю, что нет, – ответил младший лейтенант после долгого молчания (он явно не спешил со мною ссориться).
Я начал раздражаться. Лист отложил «Голос Крыма» в сторону и более не зевал. Фрау Воронов нервно постукивала по столешнице ногтями. Я решил припереть младшего лейтенанта к стенке. Сокрушить оборону неотразимыми доводами.
– Но какая разница? Он ненавидел большевиков и тем не менее работал на них. Не логичнее бы было трудиться во имя победы над большевизмом? Или просто плюнуть на всё и продолжать работать по специальности – для прокорма семьи? Что скажете, товарищ?
Он явно хотел отмолчаться (всякая дерзость имеет свой предел, и никому не хочется приближать расставание с жизнью). Но некоторое время спустя ответил:
– Нет, не логичнее.
Я хотел спросить почему, но не стал. Всё было ясно и так. Не стоило лишний раз нервировать фрау Воронов. Настала пора кончать этот занятный, но, по существу, никчёмный разговор. Я перешел прямо к делу. Без обиняков и дурацких условностей.
– Вы готовы сотрудничать с нами?
– О чем вы? – Кисть его сжалась опять. – Не понимаю.
– Прекрасно понимаете.
Он медленно разжал кулак и так же медленно проговорил:
– Исключено. Ausgeschlossen.
– Но вы ведь не большевик?
– Какое это имеет значение?
Все произошло как-то слишком быстро. Без игры, без уверток, раз и готово. Лист и фрау Воронов скучали. На лицах читалось: «Пора».
– Зря, – сказал я ему. – Собственно, после взятия города и учитывая, что вы не имеете связей с партизанами или подпольем, мне не о чем вас расспрашивать. Я сделал вам интересное предложение…
– А я отказался, – бестактно прервал он меня.
Солнечный луч, проникнув в щель меж занавесками, угодил ему прямо в глаза. Он невольно зажмурился, как будто перед ударом. Я с расстановкой проговорил, ставя последние точки над i:
– Младший лейтенант, мы хорошо понимаем друг друга. Но вот вы, видимо, до сих пор так и не поняли, что произошло со всеми вами. Возможно, вы всего не знаете. Так вот, сейчас на мысе Херсонес и рядом с ним скопилось тысяч пятьдесят, если не больше, русских. И никому нет дела до их эвакуации. Вы мне не верите? По глазам вижу, верите. Вас просто бросили. Даже не трусливо, а подло и равнодушно, как старую, использованную, ненужную деталь.
Он резко вскинул голову. Солнце продолжало бить ему в глаза, но теперь он не жмурился.
– А это уже не вашего ума дело.
Я старался не глядеть на присутствующих. Проклятая жара. И зачем сюда приперся этот Лист? И фрау Воронов – лучше бы ее тут не было. Тогда я бы мог позволить себе не обратить внимания на вызывающую наглость лейтенанта.
– Вы позволили себе слишком много, – сказал я ему очень тихо. – Есть вещи, которых простить нельзя. Речь идет о чести мундира, германского мундира. – Я сделал паузу. – Мне жаль, но вы должны понимать, что после такого предложения, как мое, и вашего отказа вы не можете оставаться в живых. Познакомившись со мной, вы узнали много лишнего. Да и вообще…