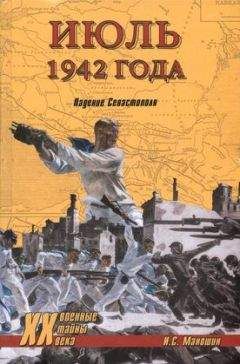Я усмехнулся и совершенно не к месту задумался, как бы переделать это применительно к Писецкому. «С Шевченко в башке». Неплохо, но кто знает, что было у Писецкого в башке на самом деле. Впрочем, в июле сорок первого его коллеги Мицик и Подильник показали себя настоящими гайдамаками (некогда мне довелось прочесть занятную поэмку, в которой вдохновенный графоман предвосхитил ряд идей вождя Великогерманской империи, идей, прямо скажем, не самых бесспорных и только вредящих делу). Мицик любил вспоминать, как настоящий польский профессор чистил ему, уголовнику, сапоги. Перед тем как Мицик лично его пристрелил. Что с него взять – скотина, тупой деревенский жлоб.
Быть может, «с Грушевским в башке»? В целом не хуже, чем «с Шевченко». Правда, вряд ли Писецкий читал основополагающие труды классика национально-исторической мысли, их не читал даже я. Хотя кто знает – возглавлявший агитгруппу студентишка вполне мог заставить своих бойцов ознакомиться с парой брошюрок. Быть может, «с Петлюрой»? Тоже неплохо, но где он теперь, вечно беглый бухгалтер? Убит в мае двадцать шестого. Евреем, что наверняка сильнейшим образом язвит самолюбие формирующейся нации. А может, наоборот – вдохновляет на новые подвиги.
«С Бандерой» тоже звучало неплохо. Правда, этот скользкий тип нынче делает вид, что сильно на нас обижен. Это не мешает ему вольготно чувствовать себя в Заксенхаузене. В отличие от сотен тысяч иных «украинцев», недостаточно сознательных и потому с различной скоростью умерщвляемых в концлагерях голодом и полезным для рейха трудом. Или же просто умерщвляемых, без лишних разговоров и напрасной траты времени. Что совершенно нецелесообразно – но, по извращенной логике господ вроде Геринга и Гиммлера, именно это обеспечивает будущее нашего народа, а кто более прав, покажет только время.
«С Мельником». И это неплохо, звучит практически так же, как с Лениным, но что такое этот жалкий Мельник? Тем более при переводе на немецкий вообще получается какой-то «Мюллер», а это уж совсем не comme il faut.
В голову положительно лезла всякая чепуха, тогда как надо было заниматься делом. Я вздохнул и поймал участливый взгляд фрау Воронов.
– Проклятая жара, – сказал я ей негромко.
– Вам чаю? – спросила вдова.
Я покосился на столбик термометра.
– Пожалуй, не стоит. Если можно, холодной воды.
Она кивнула и, встав, направилась к двери, умело демонстрируя изящный зад, обтянутый черной юбкой, чуть-чуть не достававшей до колен. Я вновь испытал досаду в связи с необходимостью отъезда из города и вернулся к своим фотографиям. Последним из пропавших был Некрутенко. Из советских, сержант-пограничник, сдавшийся в плен в первые дни войны. Уроженец села Сотниковка Недригайловского уезда Харьковской губернии. Ныне Недригайловского района, Сумская область. Отец его был сельский активист, колхозный бухгалтер, участник коллективизации – из тех мерзавцев, что, отбирая зерно, обрекали на гибель от голода соседей. Сынок – сначала пионер, потом комсомолец, близкий к райкому начинающий карьерист. После призыва на службу – курсант школы младших командиров погранвойск НКВД. В группе он был новичком, но подавал большие надежды, изнутри зная советскую систему и отличаясь собачьей преданностью новым хозяевам – или лучше сказать, благодетелям, вытащившим его из лагеря военнопленных. Я колебался даже, стоит ли посылать его на задание, пусть и опасное, но простое, не требовавшее навыков агентурной работы, способностями к которой бывший пограничник был наделен, вероятно, с колыбели. Но настоящий боец формируется в деле. Вот его и сформировали – и слава Богу, если он погиб от пули, а не попался в лапы красной контрразведки. В мозгу шевельнулось: может, еще отыщется? Вряд ли. Моей задачей было не скорбеть, а восполнить потери, пользуясь материалом, которого с каждым днем становилось всё больше.
– Что у вас интересного? – спросил я фрау Воронов, которой дал задание просматривать документы, отобранные у пленных, и сопроводительные бумаги из фильтрационного лагеря.
– Лейтенант-связист. Еще несколько связистов. Младший лейтенант-летчик, ранен.
– Проверим. Имейте в виду, нам в первую очередь нужны не телефонисты, а радисты. Желательно сдавшиеся добровольно. И моряки как источник информации. Их мало, в плен их берут неохотно. Есть что-нибудь особенное?
– Вот этот может быть по вашей части. Офицер, неплохо говорящий по-немецки.
– Отражено в документах?
– Нет, в докладной записке. Когда был обнаружен нашим патрулем, пытался, пользуясь темнотой, выдать себя за нашего солдата, из генерал-губернаторства, фольксдойча. Будто бы отбился от своих.
– И что?
– Неверно указал номер части.
– Выражаясь на вашем языке, дал маху, что лишний раз подтверждает – информация решает все. И кто же этот полиглот?
Фрау Воронов, углубившись в документы, разочарованно хмыкнула:
– Младший лейтенант. Ускоренные курсы. Белоцерковское пехотное училище. В Томске. Зато фамилия красивая – Старовольский. Дворянская, не иначе. Если не жид, конечно.
Я поглядел на часы. Для пары бесед время еще оставалось.
– Что ж, так и быть, побеседуем с товарищем Старовольским.
* * *
Прежде чем отправить младшего лейтенанта ко мне, его могли бы привести в порядок. Неужели трудно подтащить человека к умывальнику и дать две минуты на то, чтобы ополоснуть разбитое и грязное лицо? Даже фрау Воронов, давно уже служившая в СД и, говоря по-русски, видавшая виды, недовольно поморщилась, увидев закопченную физиономию со свежими еще кровоподтеками. Давно утратившая цвет гимнастерка (название, связанное с гимнастикой) была покрыта масляными пятнами и пылью. На левом виске синела гематома – возможно, след удара, которым его сбили с ног в момент разоблачения. Петлицы, когда-то малиновые, были снабжены квадратными железками с давно ободранной эмалью.
– Получайте клиента, – обратился ко мне пришедший следом Лист. – Если не возражаете, я останусь, посижу в интеллигентном обществе. У вас не то что у меня. Сейчас допрашивали одного комсомольца. Упрямейшая скотина. Если завтра очухается, придется продолжить. Но вряд ли. Закеев перестарался. Впрочем, какая разница. Все равно б ничего не сказал. Фрау Воронов подтвердит – я их вижу насквозь, после первых пяти ударов. Ни разу не ошибся. Правда, Оленька?
Фрау Воронов кивнула. С некоторым, правда, смущением. Я испытал приятное волнение. Пережившая личное горе вдова сохраняла чувствительность, душа оставалась живой. Возможно, все же стоило попробовать? Беседа с младшим лейтенантом займет не так уж много времени, потом еще один связист, от силы два, затем – отправиться на ужин в «Шашлыки и чебуреки». Или в другое место, туда, где не будет Листа. В Бахчисарай можно выехать завтра.
Младший лейтенант казался совершенно безучастным. Сидел на стуле, опустивши веки, почерневшие от солнца руки тяжко покоились на коленях. Могло сложиться впечатление, что он не понимает разглагольствований Листа. Но мне был известно – он понимает всё. Сугубо ради формы я спросил:
– Вы говорите по-немецки?
Младший лейтенант устало поднял веки.
– Предпочитаю по-русски. У вас есть переводчица. Фрау Ольга, если я правильно понял.
Лист хмыкнул в своем углу. Фрау Воронов встала и подошла поближе. Было видно, что ответ ей не понравился. Я пожал плечами и перешел на русский.
– Вы, я вижу, человек образованный. Киевлянин? Судя по фамилии, из бывших.
– Разве что по фамилии, – все так же безучастно ответил мне он.
– Сигарету?
– Не стоит. От воды не откажусь. Жарко.
Я повернулся к фрау Воронов.
– Налейте ему, пожалуйста.
Ее лицо исказилось гримаской, но графин с подноса она подняла. Наполнила стакан и поднесла военнопленному. Жадно выпив, он попросил еще. Я кивнул. Когда он напился, я продолжил знакомство.
– Кто ваши родители?
Младший лейтенант посмотрел на меня не столь безучастно, как прежде. Помолчав, он ответил.
– Отец – инженер.
– Политические взгляды? До революции, естественно.
Русский пожал плечами.
– Он не занимался политикой. Сочувствовал партии «народной свободы», конституционным демократам. В восемнадцатом был, разумеется, против Брестского мира.
В его словах мне послышалось одобрение. Лист, прикрыв рукою рот, зевнул. Плохо зная русский, он понимал едва ли четверть сказанного. Фрау Воронов усмехнулась. Подозреваю, ее папаша тоже не был в восторге от Брестского мира. Но она бы не стала говорить об этом посторонним. Ни советским, ни немецким. Мне сделалось любопытно, появилась тема, было за что зацепиться, проявить интерес к человеку, установить контакт. Я иронически заметил:
– Следовательно, он выступал за войну и мечтал о водружении креста над храмом Святой Софии в Константинополе?
Русский негромко проговорил:
– Он был против оккупации и расчленения своей страны.