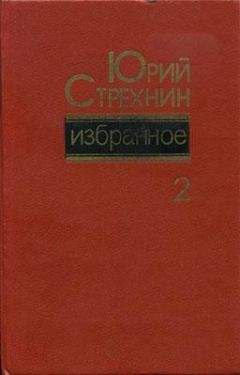В том месте доклада, где говорится об этом, вполне подходящим был бы пример с лейтенантом Макарычевым. Но не стоит с трибуны, во всеуслышание упоминать об этом. Мне — характерный примерчик, а человеку — травма. Ведь бывает так — назовешь фамилию, и пошло гулять с языка на язык.
Нет, Макарычева я не упомяну. Но обязательно подчеркну, что к вступлению в партию каждый должен готовиться, заботясь не только о добросовестном исполнении своей должности, а прежде всего — внутренне. С трепетом, можно сказать, об этом думать.
С трепетом… Мне он знаком.
3До войны да первое время и на фронте мне как-то в голову не приходило подавать заявление о приеме в партию; я подал его, только уже побывав в бою, да и то подал не весьма решительно. Ведь я привык думать, что «партиец» — так в мои пионерские годы называли коммунистов — это человек хотя и обыкновенный, но вместе с тем и необычный. Мне всегда казалось, да и теперь кажется, чудом многое из того, что сделано партией. Чудо, что двести с небольшим тысяч большевиков — столько их было в семнадцатом году — сумели повернуть за собой сто пятьдесят миллионов в стране, где капиталистов, купцов, лавочников, кулаков и попов было столько же, сколько и рабочих. Чудо, что мы выстояли в гражданской войне, зажатые в тугой петле. А разве не чудо — коллективизация, первая пятилетка? Где, за какой партией и когда с такой верой шли миллионы людей? Чудо из чудес, что мы выстояли в сорок первом. И все это — партия…
«Большевик», «коммунист» — эти слова издавна означали для меня — самый справедливый и самый смелый. В школьные годы каждого партийного, которого мне доводилось видеть, я старался представить себе в комиссарской кожанке или в красноармейской шинели, хотя и был на таком человеке самый обыкновенный пиджак или модная по тем временам блуза-толстовка. Позже, повзрослев, я узнал, что встречаются среди членов партии и такие, которых из нее давно надо бы гнать. Но это не поколебало моего мнения, что партия — это лучшие из лучших, что быть принятым в нее — великая честь. И я считал, что, если и тружусь честно, и ни в чем предосудительном не замечен, — этого еще мало, чтобы получить право стать членом партии.
Себе-то я могу признаться, что был тогда, вероятно, чрезмерно нерешителен, оценивая свои возможности, способен ли я оправдать звание члена партии. Что в партию! В свое время даже в комсомол я не сразу отважился вступить, тем более что в мои юные годы для этого требовались поручители. Их я, конечно, нашел бы. Но непонятная другим стеснительность все время сдерживала меня.
Теперь-то мне смешными кажутся тогдашняя моя робость, мое тогдашнее представление, что слишком высок был барьер, разделяющий «несостоящих» от «состоящих». Но так ли уж плоха была такая робость? По-моему, равнодушие, безразличие — хуже. Ведь надо, чтобы человек крепко прочувствовал, какую ответственность на себя берет, подавая заявление о приеме… Что греха таить, встречаются у нас иногда такие ребята, особенно из тех, у кого в службе слабинка обнаруживается, которые не очень понимают, комсомольцы они или нет. А не понимают потому, что не очень переживали — примут ли их в комсомол? Ведь некоторых, факт остается фактом, перед призывом в комсомол втягивали, втягивали в самом прямом смысле. А меня и моих ровесников в комсомольском возрасте, помнится, очень волновало, достоин ты окажешься или не достоин.
…Черт возьми, а не занялся ли ты, дорогой Андрей Константинович, товарищ полковник Сургин, старческим брюзжанием? Молодежь тебе теперь не та? В твое время люди что́, сознательнее были? Не симптомы ли пенсионного возраста у тебя?
Но разве беспокоиться о том, чтобы подтянулись до остальных и те, кто с изъянцем, — значит брюзжать? Да и о каком брюзжании может быть речь, если знаю, что за люди у нас? Каждый день, бывая в частях дивизии, вижу множество замечательных ребят. Таких, которые с полной ответственностью и в комсомол вступали, и в армию шли. Таких, за которых можно быть уверенным: если дойдет до серьезного — себя достойно покажут. Все. В том числе и те, у которых есть еще какая-нибудь слабина, Я верю в самого необмятого, еще по маме скучающего, к рамкам службы не привыкшего. Не теряю веры и в тех, кто умнее и взрослее самих себя хотят казаться. Верю даже в самых разболтанных — и они могут стать надежными. Все зависит от того, сумеем ли мы найти в каждом ту струну, которая дает самый чистый звук. Разве герои только из паинек получались?
Но недаром говорят — своя рубашка ближе к телу. Заботиться я могу и обязан о лейтенанте Макарычеве или о рядовом первого года службы Ладушкине, а «в уме» так или иначе держу Вовку. Он у меня ведь тоже не без заковык… Помню, в комсомол он подал заявление по собственному разумению, никто его не агитировал и не вовлекал. Вовка тогда в восьмом классе учился. Однажды, перед тем как в школу идти, торжественно нам сообщил: «Сегодня меня принимать будут». Рина по этому случаю торт изготовила. Ждем, ждем его, чтобы отпраздновать событие. Наконец является. Вид — не праздничный. Спрашиваю: «Что случилось?» — «Отложили». — «Почему?» — «Ябеде одному навтыкал перед самым собранием. А мне и сказали, что не дозрел до комсомола, раз таким способом конфликты решаю».
Очень парень переживал. Боялся, совсем не станут вопрос о его приеме рассматривать. Однако вернулись к вопросу. Правда, на этот раз Рина торт уже не пекла: а вдруг наш сын опять покарает какого-нибудь ябеду и снова впадет в немилость комсомольской организации? Но он вернулся, сияя как солнышко, уже комсомольцем.
С того времени Вовка заметно переменился — взрослее стал, собраннее. Оно и понятно…
4Мои размышления прерывает еле слышный звук осторожно раскрываемой двери. Догадываюсь: Володька. С раннего детства у него сохранилась такая манера: приоткрыть дверь, заглянуть в щелочку, тихо посмотреть и на взгляд определить, можно ли.
Я рад, что он заглянул, — в последнее время это случается редко. Не то чтобы мы поссорились, но некоторая размолвка между нами после разговора о планах его жизни произошла. Хорошо, если бы мы оба забыли о ней.
— Заходи! — приглашаю я. — Какие успехи на сегодняшний день?
— Электропроводка на вверенном мне участке в норме, — шутливо-официально рапортует Вовка, присаживаясь на диван. Я гляжу в его карие, как у Рины, глаза, на его чуть широковатый, с крутым вырезом ноздрей нос. Он удивительно похож на Рину не только чертами лица, но и чертами характера — быстротой в выводах и решениях, стремлением к независимости в поступках. Как мне хочется, чтобы эти качества характера сына служили ему только на пользу! И как хочется, чтобы мы с ним во всем и полностью понимали друг друга! А это сейчас непросто. Наверное, я еще не привык относиться к сыну как к взрослому человеку, с должной мерой не только требовательности, но и уважительности. Вот к любому, самому молоденькому солдату так относиться умею, а к Вовке — пока еще нет.
Мне очень хочется спросить сына, не произошли за последние дни какие-либо перемены в его планах на будущее, но удерживаюсь: не надо давить на его сознание, пусть в нем вызреют наиболее верные решения.
И я не завожу с ним серьезного разговора, только задаю несколько вопросов насчет учебы в вечерней школе, ведь меня, как отца, это не может не интересовать.
Оказывается, Вовка пришел по делу. Преподаватель истории дал им домашнее задание: подготовить для урока-семинара выступление по одному из разделов темы Великой Отечественной войны — на выбор. Вовка решил посоветоваться со мной. Спрашиваю:
— Что легче или что интереснее хочешь выбрать?
— Что интереснее.
— Например?
— Ну… что ты видел на фронте сам.
— Видел я, брат, многое…
В конце концов, перебрав разные моменты войны, мы останавливаемся на ее середине, на переломе, который наступил после Сталинграда. Курская дуга… Мое боевое крещение… Есть что вспомнить. Есть что и почитать Вовке. Достаю третий том «Истории Великой Отечественной войны».
— Штудируй и извлекай суть. А потом поговорим.
Вовка уважительно берет увесистую книжищу.
И тут мой взгляд останавливается на лацкане его серенькой, еще школьной, куртки, в которой он теперь ходит на работу. На том месте, где всегда, сколько я помню эту куртку, был комсомольский значок, — пусто. Спрашиваю так, между прочим:
— Куда значок-то девался?
И слышу в ответ небрежное:
— Не все равно — со значком или без?
— Может быть, тебе уже все равно — в комсомоле или нет?
— А что, пап, если по существу? Какая разница? Что мне комсомол дает?
— А что ты даешь комсомолу?
— Комсомол мне — ничего, я ему — тоже. Никто никому не должен, вот и ладно, квиты.
— Ты что, на все смотришь только с позиции выгоды? Кто это тебя так вразумил? Дружки новые?