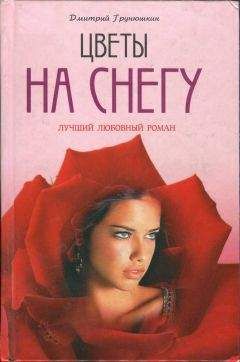Если в шахматах обычно принято ходить пешкой, стоящей впереди королевы, то первый шаг летного поединка всегда начинается с попытки зайти в хвост противнику. Так и сделал немец, зайдя ко мне снизу с задней полусферы. Я стал в крутой вираж. Противник повторил мой маневр, и мы сделали в таком положении два круга, осматривая друг друга. Каждый из нас все сильнее тянул на себя рычаги управления, чтобы зайти противнику в хвост и первому открыть огонь. Весь этот бой проходил на высоте от ста до двухсот метров восточнее села Короча. Моторы наших самолетов работали на полную мощность: сектор газа моего двигателя был дан вперед до упора, а жалюзи охлаждения полностью открыты. Должен сказать, что поскольку мой самолет был легче, я приобрел преимущество в скорости маневра и первым зашел в хвост «Мессера», пилот которого явно проявил самоуверенность, полностью положившись на подавляющее техническое превосходство своей машины, и не учел некоторых специфических моментов. Когда я приблизился к задней полусфере самолета противника и начал брать его в свой прицел, то стрелок из кабины открыл по мне интенсивный огонь. Меня спасло только то, что мы находились в глубоком вираже, и центробежная сила прижимала стрелка к днищу его кабины, сбивая прицел. Крупнокалиберные пули веерами летали вокруг моего «Ишачка», но я остался невредим, благодаря тому, что и цель, и стрелок находились в постоянном движении. В принципе это было огромной удачей. Наконец, я поймал в прицел капот самолета противника и ударил по нему из всех своих четырех пулеметов. Трассирующие пули, заложенные в ленту, помогли мне определить, что я удачно накрыл цель. Первым видимым результатом стрельбы был задравшийся кверху ствол пулемета стрелка из зада кабины, что обычно бывает, когда он убит. Немецкий пилот, видимо, понял, что все будет не так уж просто, и резко, свечой, взмыл вверх. Честно говоря, я надеялся, что его боевой запал исчерпался, и он оставит меня в покое, позволив благополучно дотянуть до своего аэродрома на остатках горючего. Но это явно был день несбывающихся надежд. Немец снова зашел мне в хвост, навязывая бой, и мы опять сошлись в глубоких виражах. Пилот «Мессершмитта» принялся маневрировать, меняя мощность работы своих двигателей, входя в левый глубокий вираж, резко уменьшал обороты левого двигателя, соответственно поступая и с правым, когда ложился в правый вираж, одновременно увеличивая мощность другого, противоположного двигателя. В результате этих маневров самолет противника значительно уменьшил круг виража, и мне становилось все труднее и труднее ускользать из его прицела, даже несмотря на меньший вес и лучшую маневренность моей машины. Немец будто бы затягивал на моей шее воздушную петлю, и, видимо, понимая, что моя песня спета, несколько расслабился. В результате чего, уже не опасаясь моего огня, свободно и расслабленно принялся переходить из левого виража в правый, на какое-то мгновение определив свой самолет в прицел моих пулеметов. У меня не было времени думать, что это мой последний шанс. Я просто, со скоростью электрической искры, нажал на гашетку, и все мои четыре пулемета плюнули огнем, угодив немцу по левому мотору и бензобакам. «Мессер» мгновенно загорелся и, сделав левый разворот, стал уходить на запад в сторону своего аэродрома возле Белгорода. Пораженный таким фантастическим успехом и буквально опьяненный ощущением удачи, я, было, кинулся его преследовать, но, посмотрев на стрелку показателя горючего, сразу же бросил это дело. И, тем не менее, я еще успел увидеть, как, отлетев километров за десять от места нашей схватки, «Мессер» начал разваливаться на куски: от сильного жара у него отвалилось левое крыло, и самолет, с высоты примерно ста метров, рухнул на землю. Из огненного шара выкатился еще один горящий двигатель. Эта победа была вершиной моего летного триумфа, стократ усиленного тем, что когда я посмотрел на землю, то увидел, что по дороге пылит наша стрелковая часть, солдаты которой меня неистово приветствуют, подбрасывая в воздух пилотки. На протяжении нескольких секунд я был вне себя от счастья еще и потому, что немножко поддержал престиж авиации, который, отнюдь не по нашей вине, был весьма низок у пехотинцев, артиллеристов и танкистов. Даже говорили, что до войны были героями летчики, а на войне — танкисты.
Но ошибется читатель, если подумает, что мои приключения того тяжелейшего дня подошли к концу. Недаром говорят: «Выручи человека, а уж он найдет, как тебе напакостить». Не успел я немножко отдышаться, как в поле моего зрения оказался Леня Полянских, который уже явно изнемогал в воздушном поединке со своим «Мессером». «Ну, здесь дело будет проще — ведь нас двое» — подумал я, и бросился ему на выручку. Но стоило мне перехватить противника на себя, казалось, предоставляя возможность ему зайти в хвост немцу, как Леня вышел из воздушного боя и ушел на наш аэродром, а я остался один на один с новым противником, на которого у меня уже почти не было боеприпасов, горючего, да и, честно говоря, сил. От обиды на Леню у меня даже дыхание перехватило. Ну, да ладно, простим ему, вскоре погибшему — над одной из донских переправ возле станции Иловля сбитому «Мессерами».
По летному почерку я сразу почувствовал, что мой второй противник отнюдь не подарок. Я сделал два глубоких виража и, понимая, что бак практически пуст, стал выходить из боя на свой аэродром. И вот здесь мне пришлось убедиться, что кто-то за меня крепко молится. При выходе из виража с левым доворотом на восток, я попал под пушечную струю пилота «Мессершмитта», который с большим мастерством сумел, практически на одном месте, развернуться и с дистанции метров в семьсот поразить моего «Ишачка». Подобного я не ожидал, решив, что с такой безнадежной дистанции немец и стрелять не станет, но он оказался мастером маневра и воздушной стрельбы. Я остался жив чудом. Пушечно-пулеметная струя выбила из крепления один из моих верхних пулеметов, который улетел неизвестно куда, повредила мотор, в лохмотья посекла гаргрот моего самолета — от задней бронеспинки до хвоста, чудом не переломив сам самолет. Одна из пуль пробила воротник моего летного реглана, а уже на земле солдат — парашютоукладчик нашел еще одну пулю, пробившую парашют. С резким понижением я принялся выходить из боя, но, думаю, что моя песня была бы спета, если бы у немца в баках было побольше горючего. Еще немного погонявшись за мной, он отстал.
Думаю, что можно представить, в каком состоянии я, минут на двадцать позже всей группы, приземлился на аэродроме возле села Великая Михайловка. Ноги подкашивались, когда я вылез из кабины, а когда присел на пеньке под деревцем, уже покрытом весенней зеленью, то колени долго тряслись, и я ничего не мог с ними поделать. Мотор моего самолета настолько перегрелся, что продолжал работать, будто с ума сошел, еще минут десять, даже когда техник перекрыл бензокран. Я ушел в сторону от стоянки, лег на самолетный чехол и мгновенно заснул — будто в глубокий колодец провалился. Чтобы понять, как спит боевой летчик, только что ушедший от двадцати смертей, нужно, не дай Бог никому, попробовать. Найти подходящих слов я просто не могу. И вот из этого глубокого колодца, возрождающего мой организм, сна меня вдруг стали вытаскивать: без устали теребили, расталкивали и пытались поставить на ноги. В конце концов, я все-таки встал, пошатываясь, с трудом заставляя открываться глаза.
Что же за чрезвычайные обстоятельства побудили меня поднимать? Оказывается, на наш аэродром пожаловал еще один зритель воздушного боя: начальник политотдела нашей 21-ой воздушной армии полковник Николай Михайлович Щербина — среднего роста, шустрый, с усиками под носом под Чарли Чаплина, на которого он слегка смахивал. Что же хотел этот политический киноактер, о котором я упоминаю, работая над этой книгой, за полкилометра от улицы Энгельса 54 города Львова, где жил после войны Щербина? Но что мог хотеть от меня начальник политотдела армии, сроду не садившийся в самолет и назначенный на свою должность после работы пропагандистом Киевского Особого Военного Округа — наши войска проигрывали сражение за сражением, а политработники повышались в должностях будто вороны, прыгающие по ветвям. Во время Киевского котла Щербина, у которого было много времени для просчета вариантов сохранения жизни, раньше всех оказался в Харькове. Теперь он требовал от меня политдонесения и рассказа о воздушном бое — никак не мог потерпеть несколько часов, чтобы удовлетворить любопытство. Заплетающимся языком я вкратце рассказал ему о прошедшем бое. Щербина поахал, поцокал языком и пожалел трех коммунистов, погибших в этом бою. Да, что он мог еще сказать, совершенно не разбираясь в том, чем мы занимаемся в воздухе.
К вечеру этого же дня, когда я немного выспался, на наш аэродром привезли тела этих самых погибших коммунистов, наших товарищей — летчиков: Анатолия Швеца и штурмана одного из легких бомбардировщиков — тело пилота сгорело дотла. Это был высокий красивый мужчина, с синими глазами, похожий на Тухачевского, очень спокойный по характеру, хороший товарищ и храбрый летчик. К сожалению, не помню его фамилию. А с Толей Швецом мы воевали с самого начала. Это был коренастый, медвежьего телосложения, с толстой шеей, слегка неповоротливый, с добрым мягким характером, молчаливый, очень надежный и стойкий в бою, но, к сожалению, слегка флегматичный, редко вертевший головой в разные стороны, а главное, — не желавший понять этой своей главной ошибки, несмотря на все мои замечания, парень. Я хорошо знал Толю, одно время со своей женой — москвичкой они жили в одной квартире с моей семьей. Незадолго до своей гибели он вернулся из госпиталя, получив ранение во время одного из вылетов в конце марта. Помню, сел самолет на лыжах, а Толя не вылазит из кабины. Мы подошли к нему, а он не может стать на ноги: эрликоновский снаряд разорвался между его ног прямо в кабине и пронзил осколками мякоть. Когда мы вытащили его из кабины, то унты были полны крови. Летчики подхватили его, положив руки на свои плечи, и понесли как большого доброго мишку, сходство с которым усиливали крупные черты лица.