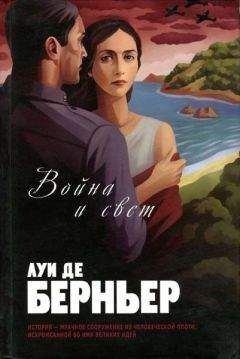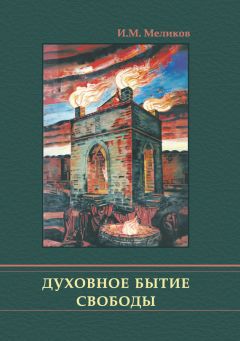— Невероятно! Такой образованный мужчина, а не знает, как отправить весточку усопшим.
16. Мустафа Кемаль, пехотный лейтенант, год 1474 (4)
Далеко от Эскибахче — триста миль через горы, минуя Денизли, Ушак и Бурсу, за Мраморным морем — Мустафа Кемаль учится в военном училище в Стамбуле. Идет 1899 год, и гордый юный македонец, который в детстве, играя в чехарду, отказывался сгибаться и говорил: «Если хотите, прыгайте через меня в полный рост», теперь всего лишь незаметный провинциал, ошеломленный буйным модернистским распутством в христианской части города и средневековой оцепенелостью и упадком в мусульманской.
Жизнь в училище тяжела. Тут заведено, что сержанты бьют курсантов, если те не обращаются к ним «эфенди», а кормежка хуже, чем в английской общественной школе. Газеты, книги и спиртное запрещены, насаждается исламское благочестие, в Рамадан следует непременно поститься. А в христианской части города полно газет, баров и борделей. В кафе «Пти-Шан» подают виски, а еще есть многолюдные бары «Йонио», «Стефан», «Яни», куда частенько заглядывают армяне, греки и невероятный левантийский сброд. Мустафа приятельствует с Али Фуатом — курсантом из хорошей семьи; они совершают лодочные походы, практикуются в риторике, ездят на острова и спят в лесу в палатке. Али знакомит друга с ракы́, и Мустафа, пригубив, восклицает: «Какой чудесный напиток! Он пробуждает желание стать поэтом!» Водка определит судьбу Кемаля. Она станет его снотворным, поможет преодолеть застенчивость, придаст вдохновения, осложнит отношения с людьми и в конце концов прикончит. Мустафа продолжает читать труды великих французских мыслителей и задумывается о необходимости что-то предпринять для спасения своей страны от чужеземцев и от нее самой. У него появляется привычка к усиленным ночным размышлениям, что порождает бессонницу. Он поклоняется одновременно Наполеону Бонапарту и Джону Стюарту Миллю[25], позаимствовав у последнего идею о том, что все моральные и политические поступки должны осчастливливать максимальное число людей. По окончании учебы Кемалю присваивают лейтенантское звание и зачисляют в штат училища, а он, бессовестно используя оборудование департамента ветеринарии, начинает выпуск подрывной газеты, цель которой — разоблачение коррупции и злоупотреблений властей. Начальнику Мустафы предписано его остановить, но тот намеренно закрывает на все глаза. Султан превращается в удивительного недопеченного тирана с параноическим сомнением в себе и бездеятельной нерешительностью, с такой обреченной на провал мешаниной миротворчества и абсолютизма, что даже его собственные офицеры более ему не преданы.
Мустафу производят в капитаны, и он с друзьями снимает квартиру в армянском доме на площади Беязит. Они, как все молодые люди, говорят о революции и собирают запрещенные европейские книги, но в один прекрасный день их же приятель, попавший в обширную султанскую сеть шпиков, выдает их полиции и заманивает в кафе, где всех и арестовывают.
Обращаются с ними плохо, но Али Фуат, несколько утратив связь с реальностью, с достоинством и апломбом заявляет следователям: поскольку он носит военную форму, никто чином ниже Султана не имеет права его бить. Мать Мустафы убеждена, что сына казнят, а тот в довольстве проводит время в тюрьме за чтением и сочинением стихов.
Проводится следствие, и власти приходят к убеждению, что Мустафа и Али Фуат — просто глупые мальчишки, которые со временем перебесятся и станут хорошими офицерами. Принято решение направить одного в Адрианополь[26], а другого в Салоники, и им предоставляется право самим договориться, кто куда поедет. Приятели договариваются так быстро, что власти подозревают неладное и обоих отправляют в Дамаск. Али Фуат и Мустафа Кемаль проводят последний день в Стамбуле, накачиваясь виски, и затем австрийский лайнер везет их в Бейрут. Поездка занимает целых восемьдесят дней, отчего кажется, будто пароход двигают не машины, и пойманная стайка сардин.
Каратавук, второй сын гончара Искандера, и Мехметчик, сын Харитоса и брат Филотеи, сидели рядышком на утесе над городом. Их послали собирать кизяк, но они сначала подглядывали за Псом, а потом кидались камешками в разбитую бутылку, которую установили в развилке миндального деревца. Теперь зеленые осколки окончательно расстрелянной бутылки опасно поблескивали на земле, а мальчишки решили, что можно еще маленько поваландаться.
Из кожаных фляжек они налили в свистульки воды и стали состязаться, кто выдаст трель протяжней и заливистей. Внизу городские жители на секунду отвлекались от дел и прислушивались, а зяблики с коноплянками подпрыгивали на жердочках в своих клетках и обеспокоенно крутили головами.
Устав от музицирования, Мехметчик бережно спрятал глиняную малиновку за кушак, взял палочку и принялся писать в пыли у своих ног.
— Что ты написал? — спросил заинтригованный Каратавук.
— Свои имена, — ответил приятель. — Никое и Мехметчик.
— А где какое?
— Где длиннее — Мехметчик, имя-то длиннее, дурень.
— Сам дурак. А почему это означает «Никое», а вот это — «Мехметчик»?
Мехметчик нахмурился: как объяснить такую простую вещь?
— Означает, и все, — наконец сказал он. — Из этих букв составляется «Никос», а из тех — «Мехметчик».
— Жалко, я не умею читать и писать, — вздохнул Каратавук.
— А чему вас тогда в школе учат? Что вам ходжа Абдулхамид рассказывает?
— Мы изучаем Пророка и его триста достоверных чудес, проходим Авраама, Исаака, Иону, а еще Омара, Али, Хинда, Фатиму и святых. Иногда нам рассказывают о битвах Саладина[27] с варварами. Еще читаем вслух Святой Коран, потому что должны знать наизусть аль-фатиха.
— Чего это?
— Начало.
— А какое оно?
Каратавук закрыл глаза и стал декламировать:
— Бисмилла аль-рахман аль-рахим[28]… — Закончив, он открыл глаза, отер лоб и заметил: — Это трудно.
— Ничего не понял, — пожаловался Мехметчик. — Но звучит красиво. Это человеческий язык?
— Конечно, человеческий, дурак. Арабский.
— А какой он?
— На каком арабы говорят. И Аллах тоже, поэтому надо учить наизусть. Там чего-то такое про милосердие и Судный день, и про указание верного пути. Если что-то не так, или ты беспокоишься, или кто-то заболел, надо только прочитать аль-фатиха, и все, наверное, будет хорошо.
— Я и не знал, что Бог говорит на разных языках. Отец Христофор обращается к нему на греческом, но мы его тоже не понимаем.
— А вы что учите?
— Больше вашего, — важно ответил Мехметчик. — Про Иисуса, сына Марии, и его чудеса, про святого Николая, святого Дмитрия, святого Менаса и других святых. Про Авраама, Исаака, Иону, а еще про императора Константина, Александра Великого и Мраморного императора[29], про битвы с варварами и Войну за независимость. Еще учимся читать, писать, складывать и отнимать, умножать и делить.
— Значит, аль-фатиха вы не учите?
— Если что не так, мы говорим «Кирие элейсон»[30], и еще есть красивая молитва.
— Какая?
Мехметчик зажмурил глаза, невольно подражая другу, и прочитал:
— Патер имон, о эн тис уранис, агисфито то онома су, энфето и василиа су…
Когда он закончил, Каратавук спросил:
— Про что там? Это тоже какой-то язык?
— Греческий. На нем мы говорим с Богом. Точно не помню, там что-то про отца нашего, который еси на небеси и оставляет нам хлеб насущный, и не вводит нас во искушение. Не важно, что мы не понимаем, главное, Бог понимает.
— Может, греческий и арабский — один и тот же язык? — размышлял Каратавук. — Потому Аллах нас и понимает. Я вот — то Абдул, то Каратавук, а ты — иногда Нико, а иногда Мехметчик. Имени два, а нас с тобой по одному. Наверное, и язык один, а называется то греческим, то арабским.
— Не знаю, — неуверенно ответил Мехметчик. — Надо будет спросить.
— Покажи мое имя, — неожиданно попросил Каратавук. — Напиши его на земле.
— Какое ты хочешь: Каратавук или Абдул?
— Пиши «Каратавук».
Мехметчик ногой стер свои имена в пыли и палочкой вывел новое имя. Каратавук взволнованно смотрел на буквы; очень странно — он как будто надежнее утвердился на свете. Потом взял палочку и старательно скопировал надпись.
— Смотри! — гордо сказал он. — Я написал свое имя!
Мехметчик оценил работу скептически:
— Так себе получилось.
— Научи меня читать и писать! — загорелся Каратавук. — И еще этим штукам — прибавлению-отниманию. Придешь из школы — и расскажешь мне, что узнал.
— Ваша школа лучше нашей, — возразил Мехметчик. — Вы с ходжой Абдулхамидом сидите поддеревом на площади, он добрый и смешит вас, а мы корябаем на досках и торчим в темноте с Леонидом-учителем, который дерется и обзывается.