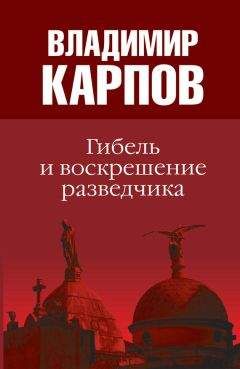Лучшие летчики были далеко на полковых аэродромах, генерал, глядя на трубку, поманил к себе офицера, случайно оказавшегося в кабинете. Офицер слышал, с кем говорил командир дивизии, лихо представился:
– Обер-лейтенант Шранке у телефона!
Гитлер подавил гнев и заговорил очень ласково, он вообще разносил только высших военных начальников, а с боевыми офицерами среднего и младшего звена всегда был добр.
– Мой дорогой Шранке, вы уже не обер-лейтенант, вы капитан, и даже не капитан, вы майор. У меня в руках Рыцарский крест – это ваша награда! Немедленно поднимайтесь в воздух и сбросьте бомбы на Красную площадь. Об этом прошу я – ваш фюрер. Этой услуги я никогда вам не забуду!
– Немедленно вылетаю, мой фюрер! – воскликнул Шранке и побежал к выходу. В голове его мелькали радужные картины: он бросает бомбы на Красную площадь, фюрер вручает ему Рыцарский крест, вот он уже генерал, фюрер встречает его с улыбкой, вот уже рядом сам рейхсмаршал авиации Геринг, вот уже… Да разве можно предвидеть все, что последует после того, как сам фюрер сказал: «Этой услуги я никогда вам не забуду!»
Услыхав потрескивание в трубке, командир дивизии поднес ее к уху, там звал его голос Гитлера:
– Генерал, генерал, куда вы пропали?
– Я здесь, мой фюрер, – сказал упавшим голосом генерал и тоскливо подумал: «Сейчас он меня разжалует». Гитлеру действительно очень хотелось крикнуть: «Какой вы, к черту, генерал, вы полковник, нет, даже не полковник, а простой майор интендантской службы!» Но Гитлер понимал: сейчас главное – успеть разбомбить парад, времени для разжалования и нового назначения нет, надо подхлестнуть этого дурака генерала, чтобы он, охваченный беспокойством за свою шкуру, сделал все возможное и невозможное.
– Генерал, даю вам час для искупления вины. Если вы не сбросите бомбы на Красную площадь, я вас разжалую и сниму с должности. Немедленно вслед за рыцарем, которого я послал, вылетайте всем вашим соединением. Ведите его сами. Лично! Жду вашего рапорта после возвращения. Все!
Вновь испеченный майор Шранке через несколько минут был уже в воздухе. Он видел, как вслед за ним взлетали тройки других бомбардировщиков. «Все равно я буду первым. Все равно фюрер запомнит только меня», – счастливо думал Шранке. Облачность была плотная, ничего не видно вокруг. «Ни черта, – весело думал Шранке, – это для меня же лучше. Пойду по компасу и по расчету дальности». Он приказал штурману тщательно проделать все расчеты для точного выхода на цель.
Шранке уже слышал, видел, представлял, как по радио, в кино, в газетах будут прославлять рыцарский подвиг аса Шранке, который один сумел сбросить бомбы на Красную площадь…
Шранке не долетел до Москвы, его самолет и еще двадцать пять бомбардировщиков сбили на дальних подступах, остальные повернули назад.
Шранке не мог вынести таких потрясений за короткий срок: разговор с фюрером, награда, звание майора, надежды на лучезарное будущее и – плен, может быть, смерть. Все рухнуло, стало куда хуже, чем до разговора с Гитлером. Шранке явно сходил с ума, он то истерически кричал, то плакал, наконец повалился на спину и забился в конвульсиях, серая пена выступила на его губах.
– Псих какой-то, – растерянно сказал Ромашкин.
– Вот видишь, а ты за него бойца загубил, – упрекнул Куржаков. – Отправляйте в тыл раненого и этого.
* * *
Ночью лейтенант Куржаков вызвал взводных на свой наблюдательный пункт.
– Собирайте бойцов. Через тридцать минут двинемся в первую траншею. Будем менять тех, кто там уцелел. Наш участок вот здесь. – Куржаков показал на карте, где должны занять оборону рота и каждый взвод. – На месте уточню. Ну, братцы, завтра будет нам крещение.
Роты во мраке шли по разбитой проселочной дороге, под снегом бугрились застывшие с осени комья грязи. Впереди было тихо и темно, только иногда взлетали ракеты. Чем ближе к передовой, тем больше воронок – широких и малых, старых, с замерзшей водой и совсем свежих, черных внутри. Деревья были похожи на столбы, ветви их срезало осколками снарядов. Два черных дымящихся квадрата Ромашкин принял за домики, в которых топят печки, но это были подбитые догорающие танки.
Первая траншея показалась Ромашкину пустой. «Кто же здесь воевал? Почему фашисты не идут вперед? Тут никого нет». Но за третьим поворотом траншеи встретил красноармейца неопределенного возраста, с небритым и, видно, давно не видавшим воды и мыла лицом. Уши его шапки были опущены, тесемки завязаны, испачканная землей шинель, покрытая на груди инеем, походила на промерзший балахон.
– Ты здесь один? – удивленно спросил Ромашкин.
– Зачем один? Народ отдыхает. Вон там, в землянке.
– Показывай, где. Мы сменять вас пришли.
– Это хорошо. На формировку отойдем, значит. – Красноармеец подошел к плащ-палатке, откинул ее и крикнул в черную дыру: – Эй, народ, выходи, смена пришла!
Из блиндажа вылезли четверо в грязных шинелях, с лицами, испачканными сажей коптилок.
– Смена? – спросил один. – Ну, давай принимай, кто старшой?
– Командир взвода лейтенант Ромашкин.
– Командир взвода рядовой Герасимов. Пойдем, лейтенант, покажу тебе участок.
Василий пошел за ним по траншее. Окопы здесь были не такие, как оставленные позади, там – ровненькие, вырытые, будто на учениях, а здесь – избитые снарядами, кое-где полузасыпанные, с вырванными краями, с глубокими норами, уходящими под бруствер.
Герасимов шел вперевалочку, не торопясь, как усталый мужичок после утомительной работы, он по-хозяйски просто объяснял лейтенанту, говорил «ты», будто не знал об уставном «вы».
– Место перед тобой будет ровное, танки идут свободно. Справа овраг, окопов наших там нету, стало быть, разрыв с соседом. Поставь у оврага для пехоты пулемет. Для танков мины уже накиданы. Как забомбят или артиллерия начнет гвоздить, людей вот в эти норы поховай. – Он показал на дыры в передней стене траншеи. – Когда танки через голову пойдут, там – в этих норах – бутылки с горючкой припасены. Только гляди: кверху горлом кидайте, а то у нас один себя облил, сгорел сам заместо танка.
Когда вернулись к землянке, Василий, как учили еще в Ташкентском училище, хотел начертить схему обороны и подписать: сдал, принял.
– Ни к чему это, – сказал Герасимов, – да и не кумекаю я в твоих схемах, товарищ лейтенант. Позицию тебе сдал. Мы ее удержали. Теперь ты держи, пока тебя сменят. Ну, прощевайте.
– А где же твой взвод?
– Вот он, весь тут. Три дня назад у нас и лейтенант был, и сержанты…
Герасимов махнул рукой, и четверо красноармейцев двинулись за ним, так же, как он, раскачиваясь из стороны в сторону.
Василий глядел им вслед и не мог понять, как эти невзрачные, закопченные мужички не пропустили механизированной лавины немцев. Он представлял фронтовых героев богатырями, грудь колесом, в очах огонь – он и Куржакова сначала невзлюбил за то, что тот не был таким. И вот, оказывается, бьют фашистов простые мужики вроде этого Герасимова. Ромашкину жаль было расставаться с образом лихого, бесстрашного воина, наверное, потому, что даже перед лицом смерти человек стремится к хорошему, ему небезразлично, как он умрет и что скажут о нем люди.
Василий развел отделения по траншее, выбрал огневые позиции для пулеметов, назначил наблюдателей. Подумал: «Секрет бы надо выслать, вдруг ночью немцы пойдут». Но, посмотрев на загадочную темную нейтральную зону, решил: «Вышлю завтра, огляжусь, где и что».
До утра Василий так и не смог заснуть. Сначала зашел Куржаков, проверил, как заняли оборону. Потом заглянул комбат – длинный, худой капитан Журавлев. Когда они ушли, Ромашкин все равно не лег, то и дело выходил из землянки, прислушивался, вглядывался во мрак. Казалось, фашисты могут подползти и броситься в траншею.
Но впереди было тихо. «Неужели враг так близко, на этом вот черном поле? – думал Василий. – Ну, ничего, завтра мы им покажем! Пусть только сунутся».
Лишь перед самым утром, когда чуть начало синеть, Ромашкина свалил сон, он забылся, сидя в темной прокуренной землянке.
Проснулся Василий от оглушительного грохота. Через края плащ-палатки, которая закрывала вход, сочился утренний свет. Будто горы рушились там, снаружи, страшно было выходить. Но Ромашкин, выхватив пистолет, все же выскочил. С неба несся пронзительный вой, который сковывал все мышцы и вжимал в землю. Втянув голову в плечи, Ромашкин нашел в себе силы посмотреть вверх. Оттуда черными птицами стремительно шли вниз один за другим пикирующие бомбардировщики, их было очень много, они неслись стремительно, затем, будто присев, сбрасывали бомбы и круто уходили ввысь. Бомбы тоже выли, как самолеты. Потом они тяжело бухались в землю, взрывались, земля вздрагивала, казалось, даже прогибалась от ударов и вскидывалась черными конусами с огнем и дымом. А самолеты все выли и выли, скатываясь вниз, будто по крутой горке на санках.
«Сколько же их там? – подумал Ромашкин. – Надо сосчитать». Он приподнял голову и обнаружил, что пикировщиков не так уж много. Они построились вертикальной каруселью, непрерывно кружили, бросали не все бомбы сразу, а порциями. На смену одной эскадрилье пришла другая и тоже закружила, завыла. Едкий дым от разрывов, запах гари и взрывчатки затянул траншею. Когда, отбомбившись, эскадрилья улетела, Ромашкин собрался было вздохнуть с облегчением, но взрывы все долбили и долбили землю, она все вздрагивала и вскидывалась черными веерами. «Откуда же летят бомбы? Самолеты ушли… – поразился Ромашкин и понял: – Это бьет артиллерия!»