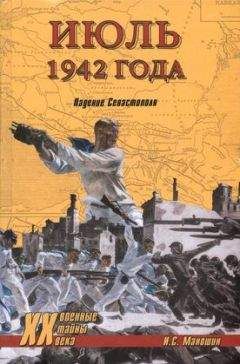На следующий день снова гремели взрывы, снова велась стрельба. Немцы медленно чистили берег. Вечером я и несколько командиров пытались найти плавсредство. Не удалось. Подсахарив, пили морскую воду. Варили на бездымном порохе рис.
В левой потерне батареи нас было несколько тысяч. Сколько точно – не знаю. Над нами, на обрывах были немцы. Берег простреливался или забрасывался гранатами. Воду приходилось добывать по ночам. Без потерь не обходилось.
В ночь с шестого на седьмое я и трое командиров попытались уйти. Понадеялись, что фашисты отвели основные войска, что через охранение удастся просочиться на территорию батарейного городка, а оттуда и куда-нибудь дальше. Не удалось. Вернулось двое, я и младший лейтенант. Меня ранило, в ногу, легко. Ходить я мог, но бегать бы уже не получилось. Перевязали, вроде обошлось без нагноения.
Седьмого утром немецкие катера обстреливали батарею с моря, не нас, а соседей, укрывшихся в артпогребах, помещении главного боезапаса. Связи с ними у нас не имелось. Огонь вели из пушек, минут пятнадцать. Потом пытались штурмовать при помощи пожарных лестниц. Их отбили, забросали гранатами. Так говорили, сам я не видел. Ногу начало лихорадить. Нехорошо.
Восьмого немцы залили в разрушенные башни мазут вперемешку с керосином и бензином, накидали зарядов и подожгли. Не сгорел и не задохнулся тот, кто был в воздухоочистительных ходах, имевших выход к морю. Я как раз оказался там.
Командиры вели разговоры. Один майор сказал, что выбор невелик. Если пробиться не удалось, осталось утопиться, застрелиться или сдаться. Из плена можно бежать – хотя бы теоретически. И поквитаться за всё. Наша сдача добровольной не будет. Мы исчерпали все средства сопротивления. Утешительная мысль. Но с другой стороны… Не так-то он был неправ.
Девятого… Да, кажется, девятого. Снова подходили немецкие катера. Снова обстреливали. Снова выкуривали. Едкий дым, паника, крики. В итоге наша левая потерна пошла – как говорится, с вещами на выход. Капитан-лейтенант Сергеев, хромая, побрел со всеми. Артпогреб, кажется, отбился. У них оставались гранаты. И была хоть какая-то организация.
Сколько нас было? Много. Гуськом пробирались в сторону Херсонесской бухты, к пологому месту, где нас дожидались немцы. Идти было нелегко, приходилось выискивать место, чтобы поставить между трупами ногу. А тут еще хромота. На море маячили фашистские катера.
Я не спешил. Напоследок решил побриться. Увидел нескольких бойцов, которые брили друг друга и стригли под машинку, и тоже решил привести себя в порядок. Всё же не каждый день человек отправляется в плен. Там ведь запросто и пристрелят. Быть может, сразу на выходе с берега. Некрасиво будет валяться небритым. Неприлично.
– Вы бы сняли петлицы, товарищ капитан-лейтенант, – сказал мне боец в наброшенной на плечи плащ-палатке.
– Какая разница? – ответил я без злости.
– Зачем тогда вообще идти? – сказал другой, тоже в плащ-палатке. – Чтобы сразу кокнули? – Отвел рукой брезент и показал тельняшку. – Военная хитрость. Я им, сукам, запросто не дамся, отыграюсь на них еще. Краснофлотец Левченко.
Первый представился тоже:
– Старшина второй статьи Смирнов.
– Убедили, – согласился я.
До чего же нам важен пример. В данном случае младших по званию. Чтобы не было стыдно, если вдруг что.
* * *
Медленно, медленно я поднимаюсь по спуску. Торопиться мне некуда, подохнуть успею всегда. Передо мною колышутся спины, сотни и сотни спин. Люди молчат, практически все. Говорить нам не о чем. Во всяком случае, теперь.
Первые немцы, в своих серых куртках, в касках на головах. Никогда их не видел так близко. Не пленных, а вооруженных, не в бою, а вот так, стоящих. Стоящих и глядящих на тебя. Без любопытства, мы не первые и не последние. Особенно в эти дни.
В глаза ударяет солнце. Мы наверху. Перед нами пространство. Можно сказать простор, то, чего мы не видели несколько долгих дней. Обезображенный, перепаханный воронками, от края до края забитый техникой. Разбитой нашей и исправной немецкой. Несколько бронетранспортеров, на них – измученные зноем фашисты. Справа синеет Казачья бухта. Цепь местных «добровольцев» с дубинками в руках. Овчарки.
Нас фотографируют. Офицеры, какие-то штатские. Щелкают «лейками», переговариваются. А вот и кинооператор. С худощавым и потным лицом, остроносый, быстроглазый, он строчит своей камерой, поворачивает ее вслед за мной. Строчи, строчи, пусть в рейхе полюбуется на тех, кто отправил в рай и ад не одного немецкоподданного. И даст бог, отправят еще.
Позади грохочут выстрелы. Рвутся гранаты. Они надеются выкурить остальных? Не дает покоя артпогреб?
* * *
Длинными рядами стоим наверху, лицом к разрушенному аэродрому. Дымящиеся капониры, остовы самолетов, башня Херсонесского маяка – устоявшая, вопреки… Удивительное дело, но вышедшая толпа сама собою незаметно строится. Солдат остается солдатом? При любых обстоятельствах, да? Сколько нас тут тысяч? Три, четыре, пять?
Немцы в удивлении взирают на нас. Похоже, им кажется, нас слишком много. Откуда нас столько, ведь битва давно закончилась? Как мы сумели продержаться столько дней? На чем?
Перед немецко-добровольческой цепью появляются вооруженные пистолетами офицеры, фельдфебели, унтера. Мы уплотняем ряды. Невзрачная личность, проходя мимо нас, монотонно бормочет под нос: «Командиры, комиссары, евреи…» Крики, пистолетные выстрелы, автоматная очередь.
Раздается приказ: «Всем сесть!» Довольно странно, но так и быть, садимся. Мне оно в самый раз, я просто падаю на землю. Пока добрел, разболелась нога. Едва уселись, новая команда: «Командиры, комиссары, евреи, встать!» Вот оно что. Поиск истинного метода, наилучшей технологии, новаторство и рационализаторство. Экономия времени и энергии. Стахановский подход на немецкий манер.
Нет, сучьи дети, с нами не выйдет. Мы продолжаем сидеть. Немцы бегают и орут. Один, слегка похожий на свинью, в погонах старшего офицера, встав перед нами и отирая лицо платком, как попугай раз за разом кричит:
«Командиры, комиссары, евреи, встать!»
Возможно, это всё, что он знает из русского. Основное и необходимое. Я переглядываюсь со Смирновым и Левченко. Нехай себе надрывается. Физиономия у немца раскраснелась, белый платочек в руке дрожит. Стоящие рядом младшие по званию терпеливо обливаются потом.
Раздается первый выстрел, за ним второй, третий. Пока они стреляют в воздух, но скоро начнут в людей. И будут продолжать, пока командиры, комиссары и евреи не встанут. Пулеметы на бронетранспортерах поворачиваются на толпу, один уставился прямо на нас: на меня, на Смирнова, на Левченко. Еще минута, быть может, и…
Краем глаза я замечаю, как метрах в десяти поднимается немолодой человек, седой, с обретенной за годы выправкой. За ним другой, курчавый, в очках. Поднимаюсь и я, с трудом. По ноге огнем разливается боль. Что ж, вот и пришел твой час, капитан-лейтенант Сергеев. Всё то, ради чего… По крайней мере, такой конец имеет смысл.
Рядом со мной поднимается Левченко. Качнувшись, вскакивает Смирнов. Встает какая-то девчонка в платке. Поднимаются, поднимаются, поднимаются – и в течение минуты все снова стоят. Все. Как один. Немцы переглядываются, переговариваются. Стрелки в оцеплении приподнимают винтовки. «Добровольцы» с дубинками испуганно жмутся, соображая, смогут ли удрать, если тысячная толпа вдруг, не сговариваясь, кинется вперед.
Попугай в погонах старшего офицера, потрясая кулаками, бешено кричит по-немецки. Я разбираю одно только слово: «Идиотен!» Его он произносит трижды, очень громко, так, чтобы слышали все. Произносит и в ярости уходит. Он не на шутку оскорблен. Не повезло. Такой сорвался трюк.
Снова раздаются немецкие команды. Я их не слышу, они мне безразличны. Я делаю то, что следует делать. Согласно строевому уставу РККА.
* * *
К торжественному маршу, на одного линейного дистанции, поротно, равнение направо, первая рота прямо, остальные напра-ВО, на пле-ЧО, шагом – МАРШ.
И шли бы вы, суки, в жопу.
* * *
Не знаю, сколько дойдет до конца, и где он, конец, наступит. И что, собственно, будет концом.
Самые первые находят свой конец недалеко от Камышовой бухты. Там румынский взвод, составив оружие в козлы, деловито обирает убитых. Завидев нас, герои Одессы хватают винтовки и начинают стрелять. Немцы отгоняют союзников прочь. Быстро добивают попавших под румынскую пулю. Марш, шайсе, марш… Унд вир марширен вайтер.
Ноги слушаются с трудом. Левая… О левой мне лучше не думать. Хорошо, что рядом Левченко, поддерживает иногда, когда я не сильно сопротивляюсь. И мы идем – мимо мотоциклов, автомашин, овчарок, по пыльной дороге, не обращая уже внимания на одиночные выстрелы, на немецкие крики и вопли, на валяющихся вдоль дороги убитых. Не обращая внимания ни на что. Хотя…
* * *
Смирнов резко дергает меня за рукав и шепчет, словно кричит: