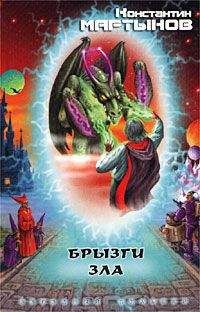— Значит, отца с матерью навестить решил. Молодец! В каком чине?
— По-вашему, курсант, — ответил Петр.
— Молодец, молодец, — повторял Николаев, не снимая руки с плеча парня. — То-то радость отцу с матерью. — Вспомнив о нас, старшина сказал: — Знакомься, Петя, с моими земляками. Оба с Волги… Ты уже позавтракал?
— Успел.
— Ничего, мы сейчас чаёк сообразим. Товарищ Климов, достань-ка термос из моего сидора.
Пока я наливал чай, старшина успел сообщить, что этого парня — сына своего закадычного дружка Яремы Реперовича — он знает с детского возраста. А с Яремой прошел полвойны, до сорок третьего. Тогда и польскому языку научился. Без знания языка невозможно было бы с родными Реперовича, которые жили в Белой Подляске, поговорить при встрече. А что он дойдет до Белой Подляски и обязательно встретится с родными Реперовича, в этом Николаев не сомневался. Только бы фашисты их не убили! Сын-то в Красной Армии служит. В сорок третьем, когда в Сельцах, под Рязанью, начала формироваться Костюшковская дивизия, Реперовича отозвали с фронта и направили в польскую часть. А теперь Ярема по соседству с нашим гарнизоном живет. После войны целая рота костюшковцев, демобилизовавшись, приехала на западные земли, возвращенные Польше, и образовала тут коллективное хозяйство имени Тадеуша Костюшки. Реперовича выбрали председателем. С той поры он бессменно руководит хозяйством.
— В сорок пятом была рота костюшковцев, а теперь, поди, целый полк вырос. У одного Реперовича — пятеро. Старший вот в отцовской части служит в Варшаве.
— О нет, не в Варшаве, — поправил старшину Петр. — Теперь во Вроцлаве.
— На офицера учишься?
— Да, на офицера… Я у отца спрашивал, бываете ли у нас? Отец ответил: очень редко. Почему?
— Что правда, то правда, давненько, с самого лета, не виделись с Яремой. Все некогда, Петр. Служба! Передай, заскочу обязательно. Ну, как у нас говорят, соловья баснями не кормят, чай-то совсем захолонул. Угощайся. Хэрбатка [1] что надо. Дочка моя, Маша, заваривала.
Мы пили вприкуску остывший чай и разговаривали теперь уже вчетвером. Говорили на русско-польском языке, и все было понятно.
Петр мне понравился. Мы обменялись домашними адресами.
— Это очень здорово, что вы рыбаки. Но в этой речке вообще нет рыбы. И вода слишком грязная… — сказал Петр нам с Генкой.
Забыв про поплавки, мы просидели на берегу Куницы до самого обеда. Тем для разговоров нашлось превеликое множество. Расстались друзьями.
— В воскресенье буду ждать вас. На этом месте, — сказал на прощанье Петр.
По дороге домой старшина продолжил рассказ о своем друге Яреме Реперовиче. До войны молодой коммунист Ренерович сидел в Петркувской тюрьме. Пилсудчики еще в тридцать седьмом схватили парня на чехословацкой границе: он пробирался в Испанию, в батальон Домбровского. Два года сидел без суда и следствия. Сумел бежать из тюрьмы. Скрывался. Когда, в тридцать девятом, Польшу оккупировали фашисты, товарищи по партии переправили его в Советский Союз. Реперович сразу же попросился в Красную Армию. Попал в бригаду морской пехоты. Осенью сорок первого его знала вся бригада. Не потому, что был единственным в ней поляком. А потому, что отчаянной храбрости был солдат. Словно заговоренный от пуль и осколков. Уж такие случались переделки, а Ярема выходил из них без единой царапины…
— Видели, какого орла-сына вырастил! — заключил старшина. — А еще четверо Реперовичей растут. Петр-то уже коммунист, офицером собирается стать, и остальные, дай срок, по отцовским стопам пойдут: яблоко от яблони, верно говорят, далеко не падает.
Выглянуло солнце. И все вокруг преобразилось. Запламенели кусты боярышника, словно золотой фольгой засверкали поредевшие кроны березок.
И впрямь березки здесь как наши, средневолжанские…
Возле самой казармы старшина вдруг остановился и, повернувшись к Карпухину, сказал:
— Не пора ли вам, ефрейтор, в свою тумбочку заглянуть? Инструмент как бы того… не запылился…
— Понял, товарищ гвардии старшина.
Ночью просыпаюсь от чьего-то шепота. Не могу ничего понять.
— В чем дело?
— Подъем, гусьва!
— Какая гусьва?
— Тихо, соседей разбудишь. Подъем, говорю, гусьва.
Откидываю одеяло. Рядом с моей кроватью стоит в наброшенной на плечи шинели Атабаев.
— Что случилось?
— Быстро одевайся и в умывальник. Там тебя ждут.
Что за чертовщина! Однако одеваюсь, может, случилось что-то. Но что могло случиться, если мои товарищи в постелях? Саша Селезнев забросил волосатые ножищи поверх одеяла, уткнулся лицом в подушку. Иван Андронов и своей любимой позе: коленки к подбородку, свернулся в клубок, ладошку под щеку, как ребятенок в детском саду. Федор Смолятко — храпун на всю роту — распластался навзничь. Толкнуть его, что ли? Да нет, не стоит, проснется — закричит.
На ходу надев пилотку, спешу в умывальник. Да что ж это такое? Карпухин с Шершнем тоже здесь. И Атабаев с двумя дружками из третьего взвода: Лысовым и Наконечным.
— Что случилось, Гена? — наверно, мой голос прозвучал испуганно. Генкины рыжие брови сошлись над переносьем.
Атабаев, не дав Генке рта раскрыть, негромко скомандовал:
— Гусьва! В одну шеренгу становись!
Лысов с Наконечным прыснули в кулак.
— Может, объяснишь наконец, что тут происходит? — стараясь быть спокойным, спросил я Атабаева.
— Выполняй команду, все поймешь, — сердито сказал он. — А ну, становись в одну шеренгу, кому сказано!
Лысов и Наконечный сделали несколько шагов в нашу сторону.
— Они команд не понимают, они — салаги, гусьва, — язвительно проговорил Лысов. — Пусть стоят как стоят. Давай, Гришутка, приводи гусьву к присяге.
Генка не выдержал. Подошел вплотную к Лысову.
— Кто ты есть, Лысов? Кто ты такой, чтоб своего товарища поднимать среди ночи с постели и обзывать его тебе самому непонятным словом?
— Ну, ну, полегче, салага, — угрожающе прошипел Наконечный. — Не таким рога ломали.
— Про рога и про копыта в другом месте будем говорить. Отвечайте, что затеяли? Ну, Атабаев! Тебе первое слово.
— Ата, давай присягу, — скомандовал Лысов. — Чего с ними тары-бары разводить.
Атабаев быстро подскочил к деревянной подставке для чистки обуви, достал из-под нее лист бумаги и начал, на манер детской считалочки, декламировать:
Я салага, бритый гусь,
Я торжественно клянусь:
Компот, масло не рубать –
Старичкам все отдавать.
Серега, Генка и я дружно расхохотались.
— Вы что, — не без испуга сказал Лысов, — в своем уме? Дневальный услышит.
— А вы в своем уме? — сквозь смех пробасил Карпухин. — Слухай, Григорий Атабаев, сам сочинил или все втроем мучились? Впрочем, все одно: зря время тратили. Разве ж это стихи?
— Это тебе не стихи, а присяга. Ну-ка, повторяй за мной, — Атабаев, наверно, и впрямь был готов еще раз прочитать эту абракадабру, но Генка остановил его.
— Вот что, гвардейцы, разойдемся по-хорошему. Вас ведь только трое. Больше во всей роте никого не нашлось, кто бы пришел на этот дурацкий спектакль. Потому что вы и артисты никудышные, а режиссеры еще хуже.
— Ты как разговариваешь со старослужащими? — попробовал перебить Генку Наконечный.
— Какие вы старослужащие? Вы — хулиганы. И это вам даром не пройдет. Ты же в комсомоле числишься, Наконечный, и ты, Атабаев. Ну какие вы комсомольцы? Ничего, завтра разберемся. Я тебе, Атабаев, припомню, как ты бритву и пояс у Шершня вымогал. Всей роте отвечать будешь — не нам троим. Понял?
Теперь в пору нам с Шершнем прыскать в кулак: Атабаеву и его дружкам ясно, что из их затеи вышел пшик. Они, видимо, надеялись взять нас на испуг. Может быть, когда-то им подобная выходка и сошла с рук, попался паренек вроде Сережки Шершня — безропотный тихоня, вот и вили из него веревки.
— Ничего я не вымогал, — буркнул Атабаев, — не докажешь.
— Докажу, Атабаев. И Шершень докажет. В день нашего приезда, Атабаев, когда ты бегал узнавать насчет машины к военторгу, старшина Николаев рассказал нам, откуда у тебя имя Григорий. Интересно, Лысов с Наконечным знают об этом? Наверно, не знают. Ты бы им сам рассказал, как твоего отца, рабочего-нефтяника, попавшего в катастрофу, спас от смерти его напарник. Это ведь в его честь назвал тебя отец Григорием. Имя своего побратима тебе дал. В твоих жилах, Атабаев, течет кровь твоего тезки, потому что он, не раздумывая, отдал ее твоему отцу, умиравшему от потери крови… А ты дурацкие стихи взялся читать среди ночи. Кому? Подумал? Сережке Шершню?
На Генку было приятно смотреть. Красивый он, Генка, когда говорит вот такими словами. Ему бы и впрямь, как когда-то говорил сержант Каменев, агитатором быть. Умеет пронять человека словом. Вон Атабаев-то обмяк весь, съежился, только глаза сердито сверкают.