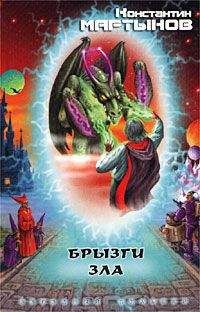— Пошли спать, Гена. Оставим их сейчас одних. Пусть подумают, о чем на собрании говорить будут.
— Погоди, Валер, я еще не кончил с Атабаевым. Так ты раскинь мозгой, Григорий, смекни, что к чему. Сережка Шершень твой механик-водитель. Он же тебя в бой повезет на танке. Куда ты без него, без других таких Сережек, без всех нас? Ну-ка, дай сюда листок, — Генка решительно протянул руку. Атабаев попятился: шинель свалилась у него с плеч. Он торопливо поднял ее с пола.
— Листок не дам, — сконфуженно сказал он. — Не мой.
— Я знал, что не твой. Не дашь мне — отдашь товарищам. Не отдашь — прочитаешь всем вслух эту чепуху про гуся и про компот.
Обращаясь ко всем троим, добавил:
— Запомните, солдат присягу принимает один раз в жизни. Солдат, а не салага! — повернулся и решительно зашагал к двери.
— Марш спать, присяжные заседатели, — бросил Генка, берясь за дверную ручку.
Атабаев, Лысов, Наконечный прошмыгнули мимо нас в открытую Генкой дверь.
На открытом комсомольском собрании с повесткой дня «О войсковой дружбе и товариществе», которое состоялось спустя два дня, выступила почти вся танковая рота. Атабаев, Лысов, Наконечный у всех просили прощения. Смотреть на них было жалко.
Совершенно неожиданно Генка стал книгочием и зачастил в полковую библиотеку. Вечером принесет стопу журналов, а на следующий день относит их обратно.
— Прочитать успел?
— А как же!
— Вот уж никогда не замечал у тебя таких способностей.
— Старик, ты многого не замечаешь вокруг себя. В замкнутом мирке жить начинаешь. Не годится… — Складывал журналы и уходил.
Как-то я сказал о Генкиной книгомании Шершню.
— Думаешь, его книги интересуют? Библиотека? Как бы не так! — Шершень развел руками. — Он от библиотекарши с ума сходит. Атабаев рассказывал…
— Нашел кого слушать.
— Да ты, Валера, как с луны свалился. Там же Маша работает.
— Какая Маша?
— Дочка нашего старшины. Ты ее не видел?
— Ни разу еще в библиотеке не был.
— Ну и не ходи, ни за грош пропадешь.
— От чего ж я пропадать должен?
— Не от чего, а от кого, — поправил Шершень. — Спроси лучше Генку.
Сразу после ужина поговорить с Генкой не удалось: Саше Селезневу пришла в голову идея обязательно сегодня выпустить боевой листок. Как же, взводу на подводном вождении нынче сам командир полка благодарность объявил, а фотокорреспондент из групповой газеты Сашу вместе с командиром взвода гвардии лейтенантом Шестовым снимал для первой страницы крупным планом. Об этом нельзя не рассказать в боевом листке. Впрочем, не велик труд листок выпустить, просто не всегда хочется этим заниматься… Однако хочешь не хочешь, а делать надо. Закон службы! Не зря говорят: не можешь — научат, не хочешь — заставят. И правильно. Иначе нельзя.
Листок я подготовил. Заметки написал печатным шрифтом, раскрасил фломастерами заголовки. Показал старшему сержанту Селезневу.
— Верно дружок твой Карпухин писателем тебя именует. Ишь как все дельно и красиво расписал. Умеешь выполнять комсомольские поручения. — Старший сержант взял с моей тумбочки листок и прикрепил его кнопками к доске рядом с расписанием занятий.
Я пошел искать Генку. Он сидел в ленкомнате, забившись в угол, со стопкой журналов на коленях.
— Читаешь?
— Ага, стихи читаю.
— На стихи потянуло? Знатоки говорят, что увлеченно стихами приходит к человеку в определенную пору.
— Да? Считай, что определенная пора наступила.
— Расскажи мне про нее.
— Про кого?
— Про определенную пору, конечно.
— Шутите, Климов? У вас, мэтр, с этим делом нелады.
— Ну ладно, давай поговорим серьезно, — предложил я. — Расскажи мне, Карпухин, о Маше.
Генка зарделся румянцем, отчего на щеках у него явственно проступили обычно пропадавшие к осени веснушки. Для чего-то принялся перекладывать журналы.
— Читай стихи, Карпухин, — я поднялся со стула. — Не хочешь говорить — не неволю.
— Да погоди ты, Валерка, — умоляющим голосом произнес Генка. — О Маше непросто рассказывать.
— Вот как?
— Слухай, Валер, ты ведь мне больше, чем друг. И думаю, больше, чем брат. Согласен? Я тебе сам все собирался рассказать, да, знать, слов у меня мало.
— У тебя — да мало слов?
— Мало, — сокрушенно признался он. — Погоди, только не вздумай острить. Слышишь? Я тебя очень прошу. Ты помнишь первый бал Наташи Ростовой? А представляешь ее себе на том балу? А Ларину Татьяну, когда она пишет письмо Онегину? А маленькую девочку из Вероны, о которой написал Шекспир?
— Это ты к чему?
— Погоди, не перебивай. А Джиоконду помнишь? Ее глаза? Помнишь, да? И артистку Теличкину в «Журналисте»?
— И это у тебя мало слов? Чего ты взялся мешать классику с современностью?
— Чудак ты, Валера. Я ж тебе про Машу рассказываю. Они все — это и есть Маша.
— Геночка, — я приложил руку к его лбу, — знаешь, как называется твоя болезнь?
— Что толку-то? Если бы я знал, что и она ею заболела!..
Тон, каким были сказаны эти слова, не оставлял сомнений: библиотека — это, оказывается, серьезно.
— Рота, приготовиться к вечерней поверке, — раздался повелительный голос дневального, и мы вышли из ленкомнаты.
— Может, познакомишь? — спросил я.
— Она тебя знает.
— Вот как?
— Я ей про тебя рассказывал.
В казарме нас остановил старшина.
— Товарищ Карпухин, помнится, вы обещали сыграть на скрипке личному составу. Да, видно, от вас в порядке самодеятельности игры не дождешься.
Генка опять засветился веснушками.
— Так вот, на партийной группе решили раз в неделю проводить в роте литературные, музыкальные, научные вечера. Как парторг, ставлю вас в известность: в ближайшую пятницу назначен музыкальный вечер. Так что инструмент, как говорится, к бою! Ясно?
— Так точно, товарищ гвардии старшина.
В пятницу состоялся музыкальный вечер. Пришли все офицеры. Старшина Николаев ни с того ни с сего вырядился в парадный мундир.
— Понимаете, — объяснял он капитану Ермашенко и взводным, — стал снимать чайник с плиты и на себя его опрокинул.
— Не ошпарились? — участливо спросил командир роты.
— Бог, как говорится, миловал. Чайник-то был холодный. А вот на вечер идти было не в чем, пришлось парадный доставать из чемодана. Хорошо, Маша нынче дома, погладила. А то хоть на вечер не ходи.
Старшина рано овдовел. Жил вдвоем с дочерью. Восьмилетку Маша закончила здесь, в гарнизоне, а потом уехала к бабушке в Сызрань: в гарнизоне девятого и десятого классов не было, а в Легницу, где находится штаб Группы, старшина устраивать дочь не стал. У тещи ей будет лучше, чем в интернате, рассудил старшина и скрепя сердце отправил с женой знакомого офицера свою Машечку на родину. Окончив десять классов, Маша попыталась поступить в пединститут, но ей не хватило одного балла до проходного. После долгих ходатайств отца перед самым высоким групповым начальством ей разрешили приехать в гарнизон с условием, что она поступит здесь работать. В полковой библиотеке оказалось свободным место библиотекаря, и Маша с радостью заняла его.
В дочери Николай Николаевич души не чаял. И был очень доволен, что, окончив десятилетку, она не сумела поступить учиться дальше и осталась с ним. Понимал разумом, что ей надо учиться, обязательно надо, что надо устраивать свою жизнь не здесь, в крошечном закордонном гарнизоне, а сердце подсказывало другое: пусть Маша останется пока с ним. Ему, может, и служить-то не так уж много осталось. Выйдет скоро в отставку старшина, и тогда они вместе решат, как дальше устраивать Машину судьбу.
Одного боялся Николай Николаевич — Машиной молодости. Не без тревоги наблюдал, как дважды в году — на восьмое марта и в день рождения дочери — солдаты покупают в складчину и дарят Маше духи, косынки, клипсы и прочие женские безделушки, а потом — букеты первых подснежников и первых ландышей. Конечно, приятно отцу, что всем она нравится, его Маша, ну а ведь придет время, когда она понравится кому-то одному больше, чем всем остальным, и этот один ей тоже понравится больше, чем все остальные. Что тогда?
Генка наверняка знал Машину историю, но то ли у него действительно стало мало слов, как он выразился сам, чтобы рассказывать о Маше, то ли все эти дни он был занят подготовкой к музыкальному вечеру (шутка ли — больше месяца не прикасался к скрипке!), но не он мне рассказал о ней, а Сережа Шершень, А ему — Атабаев, После комсомольского собрания Атабаев стал многое рассказывать Шершню.
Все заняли свои места. Старшина вышел к столу, установленному посредине прохода.
— Разрешите начинать, товарищ гвардии капитан? — обратился он к ротному.