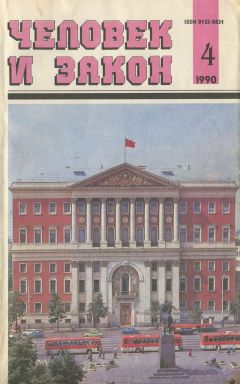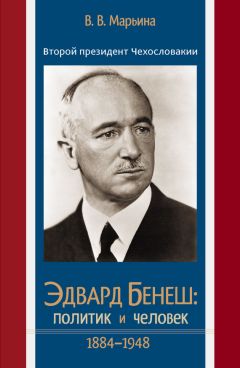Гейден медленно покачал головой:
— Мы тоже так думаем. Но коли и ты говоришь… Когда? С Советами?
— Пока, наверное, с Чехословакией. С Советами подождут.
— СССР не одолеешь, это ты брось. Ну что ж… Да, — Гейден задумался. — Воевать. Если призовут в армию, что ж… Там для меня и моих друзей работы непочатый край. Может быть, наступит светлая минута, когда немецкий солдат бросит оружие… И по всему фронту начнутся братания. Как в восемнадцатом, когда наши братались с твоими, Дорн. Ради этой минуты я…
Дорн пристально смотрел на Фреда. Нет, он не оговорился. Умышленно сказал это «наши братались с твоими»… Дорн подошел совсем близко к нему, обнял за плечи, и они долго и молча смотрели друг другу в глаза.
Утром 9 марта радио Инсбрука передало речь канцлера Шушнига. Шушниг назначил на 13 марта всенародный плебисцит — всеобщее голосование за свободную независимую христианскую и единую Австрию.
Профессор Дворник вдруг ощутил душевный подъем. Нет, не зря он ездил в Вену — Курт решился. Плебисцит — это борьба. Нужно сегодня же выезжать в Прагу. Дворник глянул на часы. Девять. Гофман уже начал прием.
Когда пришел в клинику, Гофман был занят. Нетерпеливо прохаживался по приемной — и уже репетировал разговор с президентом Бенешем:
«Только безволие французов позволило Гитлеру захватить Рейн. Речь Шушнига — это уже сопротивление. Необходимо подхватить это знамя, помочь Шушнигу. Я рад, я счастлив, что, почти раздавленный, Шушниг нашел силы. Плебисцит поставит точку на говорильне Геббельса. Ситуация напряжена, не исключено, Гитлер двинет войска… Но Гитлер уйдет, если показать ему кулак. Все даже можно сделать без французов и русских, Румыния нас поддержит, я знаю. Политика Титулеску не может измениться столь кардинально, чтобы отойти от основополагающей идеи коллективной безопасности. Возможно, и Бек одумается…»
В это время открылась дверь, и Гофман пригласил Дворника.
— Я пришел предупредить вас, доктор, что вынужден выехать сегодня в Прагу.
Гофман с сомнением покачал головой:
— Ситуация в связи с объявленным в Австрии плебисцитом, боюсь, обострилась. Не вернее ли будет пока оставаться в нашей провинциальной тиши? События не заставят себя ждать…
— Именно поэтому я и должен уехать.
— Именно поэтому? — переспросил Гофман со значением и опять замолчал.
Дворник видел, он что-то обдумывает.
Наконец Гофман сказал:
— Вы сможете уехать около пяти вечера, профессор, не раньше. Поездом на Хомутов — он приходит туда как раз перед пражским экспрессом. С билетом я помогу вам. Фрокен Ловитц, кстати, заканчивает курс лечения, и, как я заметил, она явно затосковала от однообразия нашей курортной жизни. Профессор, сделайте милость, возьмите фрокен в Прагу… По моим наблюдениям, ее жизнь весьма пресна, а это в определенной степени способствует тяжести ее заболевания.
Дворник пожал плечами:
— Ради бога… Если фрокен Ингрид выскажет подобное пожелание. Буду рад служить достойной даме.
«Я не знаю, какие планы строил Дорн, прося меня познакомить Дворника с фрокен Ингрид, но кажется, сейчас единственный момент, когда я могу что-то реально сделать для Дорна».
— Пригласим фрокен и устроим ей сюрприз? — наконец спросил Гофман.
Дворник вяло улыбнулся.
Ингрид вошла в кабинет. Она растерянно смотрела то на Гофмана, то на профессора.
— Пан Феликс, — сказал Гофман, — сегодня решил покинуть нас. Он едет в Прагу, и я подумал, не рекомендовать ли вам, дорогая фрокен Ингрид, небольшую развлекательную экскурсию в столицу Чехословакии? Дня на три… Тем более курс физиотерапии вы закончили.
Ингрид изумленно и восторженно вздохнула:
— Как мне всегда хотелось увидеть Прагу! Девочкой я много слышала от отца об этом городе. Он жил в Праге несколько месяцев, прежде чем получить сан викария, работал в библиотеке Карлова университета. Тогда я еще не понимала многого, не могу сказать, над чем именно работал отец, какие проблемы богословия… Но я хорошо помню рассказ отца о часах пражской ратуши, как перед глазами зрителей появляются все двенадцать апостолов, а за ними следует смерть… Мне было страшно: смерть, идущая за бессмертными апостолами… Страшно и любопытно. Да и вообще… Прага, колыбель европейской культуры… Я так мало видела в своей жизни! — Ингрид опять вздохнула.
«Дорн будет доволен, — думала Зина. — Я же буду знать, что происходит с профессором, буду знать, что может измениться в отношении Бенеша к происходящему, любые изменения тут же отразятся на поведении Дворника. Буду знать, с чем и куда он поспешит, если Бенеш опять направит его своим эмиссаром».
От Гофмана Ингрид и профессор вышли вместе. До пяти часов времени оставалось много. На улице было холодно. Ингрид подняла воротник плотного драпового пальто, спрятала подбородок в шарф. Дворник взял ее под руку, и они двинулись по улице, круто уходящей вверх.
Заглянули на почту. На имя профессора корреспонденции не было. Ингрид на всякий случай спросила, нет ли писем ей. Дорн пока молчал. Ингрид отправила ему телеграмму: «Выехала на экскурсию в Прагу. Где ждать аккредитив?» Дорн поймет: она спрашивает, куда ехать потом, в Янске-Лазне или возвращаться в Швецию.
11 марта Геринг назначил на шесть вечера в Доме авиации прием для дипломатического корпуса в честь присвоения ему звания рейхсмаршала. Штандартенфюрер Лей вручил Дорну пригласительный билет и с усмешкой сказал:
— Озаботьтесь принарядиться в штатское. Ненароком встретите кого-то из лондонских знакомых, хлопочи с вами, шведский промышленник Дорн. А вообще, я вам завидую, — он подмигнул панибратски, — в программе «Штраусиана», обожаю «Штраусиану», особенно польку «Анну». Видел дазно, году в двадцатом, Тамару Карсавину… Танцует она еще в Лондоне?
— Я не театрал, — ответил Дорн.
— Вот и пойдите, подразовьетесь и подразвеетесь…
— Охотно уступлю билет вам…
Лей тяжко вздохнул:
— Мне отдыхать некогда. Боюсь, — он бросил взгляд на старинные напольные часы, — мне сегодня не придется отдыхать и в собственной постели. Вам же Дорн, предстоит не только отдыхать, не и опекать. Опекать на приеме вы будете жену мексиканского посла. Она даме болтливая, любопытная, а дурак-муж ей многое рассказывает. И кстати, вот вам прекрасный повод продать Мексике шведские опилки. А хотите, купите у них кактусы, если ваша механическая пила не засорится, — Лей натужно рассмеялся.
…Меж столиков, за которыми «а-ля фуршет» подавался крюшон, бродили дипломаты. Но не было сонной обязательности в жестах, позах, брошенных фразах. Дух напряженности, ожидания чрезвычайных событий Дорн уловил сразу. Послы великих держав толпились вокруг фон Папена, который утром прилетел из Вены по срочному вызову Гитлера. Казалось, он ведет пресс-конференцию.
— Шушниг сам не ведает, что творит, — с обычной добродушной миной вещал фон Папен. — Плебисцит… Что такое плебисцит? Узаконенное разрешение народу противоречить правительству, ибо народ уже в своей сущности никогда с правительством не согласен. В самом деле, господа, ну кто любит непосредственное начальство? — Папен усмехнулся. — Если речь, конечно, не идет о вождях… Шушниг не вождь, иначе он был бы умнее. Совершенно не хочет учитывать очевидные вещи; плебисцит положит начало коммунистическому подъему, красные же используют любую дырку, чтобы не только высказать свое мнение, но и навязать его. А в Австрии и без того налицо сильная коммунистическая пропаганда, которая в момент кризиса может стать для страны весьма опасной. Поэтому сегодня, как никогда, помощь Германии имеет большое значение не только в моральном плане, но и в практическом…
Андрэ Франсуа-Понсэ, посол Франции, бледный, встревоженный, стоял один, машинально оправляя полу фрака.
«Где моя подопечная? — Дорн окинул глазами зал. — Она вполне могла бы разговорить господина французского посла. И я бы узнал, как ответят французы на агрессию…»
Высокая мулатка с шоколадной кожей и глазами цвета какао ела мороженое, перелистывая программку балета. Ее яркое пончо вызывающе выделялось даже в обстановке купеческой роскоши, на которую так падок Геринг.
Дорн подошел к ней, они перебросились ничего не значащими фразами. Он заговорил о балете — она о школах самбы, в которых разбиралась куда тоньше.
— В таком случае, мадам, я сейчас познакомлю вас с истинным ценителем хореографии, подлинным балетоманом. — Дорн взял ее под руку и повел через зал: к выходящим на Вильгельмштрассе окнам, где маячила фигура Франсуа-Понсэ…
— А… Так с мосье Андрэ я хорошо знакома, — улыбнулась мексиканка. — И сейчас я заставлю его выпить со мной коньяк. Раньше мой муж представлял нашу родину в Будапеште… Как там было весело! Как свободно на приемах, раутах! Никто никого не держал ни за руку, ни за язык. А посуда, а гастрономия!.. Вы же, немцы, — она посмотрела на Дорна с прищуром, — у вас даже мороженое не сладкое…