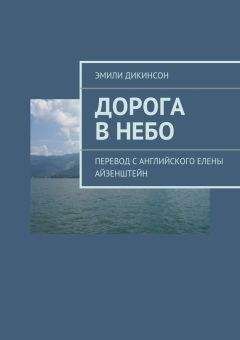— А то была у меня подружка Полина, из Чернигова. Вот смельчина, вот оторвибашка пулеметчица была! Когда в одном бою лейтенанта убило, ее любимого, она встала и пошла в рост. Кричат: «Ложись! Ложись!», а она как по воде, так она по огню идет, и ничто ее не берет. Аж страшно было, жуть брала! Взяла она лейтенанта этого, вынесла из огня да где-то три дня была с ним. Потом пришла, вся красота с нее осыпалась, как цвет, куда что делось! Схоронила она своего лейтенанта в лесу и опять воевать стала. Что было! Стреляет иной раз и плачет, а целит — верней не сможешь, стреляет и плачет…
Здесь самый воздух выжжен и трудно дышать, а во время полной тишины слышен треск жестких травинок, и слабый свист залетевшей редкой пули кажется пчелиным звоном.
И все время думаешь: что это и зачем это? Почему на земле надо скрываться, нельзя подняться во весь рост, пройти по лугу, вздохнуть полной грудью, нарвать цветов, испить воды в ручье? Не страх, а гнетущее чувство, с которым никак не может примириться душа.
И одновременно в своей душе читаешь: «А ну, давай, давай еще раз, еще получишь!»
И нет, кажется, на всем свете силы, которая могла бы пересилить тебя, смять, придавить, отбросить из этой ямы в Черной роще. И ждешь, ждешь, прижавшись лицом к холодной глине, вдыхая ее сырой сладковатый запах.
Есть ли в мире правда, справедливость, красота? Есть ли матери, сестры, любимые девушки?
Глаза мои открыты. Я лежу на земле. Холодные, мокрые, черные листья падают на лицо. Когда же это все произошло — вчера, год назад, час назад? Помню крик «воздух!», помню рев моторов и тотчас же вслед за тем гигантскую вспышку, озарившую лес, поле и небо с такой резкой, слепящей яркостью, словно она хотела в последний раз показать мир и в один раз втиснуть все, что мог бы увидеть за всю жизнь.
Долго и мучительно вглядываюсь в эти висящие надо мною огромные цветы и наконец узнаю: это красные кисти рябины.
Я слышу родной, знакомый голос. С силой пробиваясь сквозь изумрудную траву, журчит чистый и яркий лесной ручеек.
У самого глаза зеленой свечечкой горит острая травинка. Сколько в ней удивительного совершенства, высшей целесообразности, гармонии и красоты! Миллионы лет трудилась над ней природа: солнце, вода, ветер.
Журчит ручей, и я начинаю слышать знакомый голос. Давно это было, очень давно.
…Цвели вишни, и в окно стучал весенний дождь.
Леля! Милая моя, хорошая! Давай вспомним, переживем снова все.
В то майское утро на широкой, как шлях, Александровской улице у каждого домика, как девушка, стояла цветущая вишня. И вот вдруг одна вишенка выходит из калитки.
— Девушка, а девушка, а вы что-то потеряли, — сказал я.
— Я?
На меня взглянули ярко-синие глаза, и словно полыхнуло огнем и ожгло меня.
Хотел бы я знать тайну этого. Отчего так кажется, что ты давно-давно ее знаешь: снилась ли она или просто предназначена для тебя и ты чувствовал, что она есть на свете, и все ждал и вот встретился с ней?
— Вы что-то потеряли, — растерянно повторил я.
— Что я потеряла? — Она резко перекинула толстую, туго заплетенную, как жгут, косу за спину, точно не желала, чтобы я ее разглядывал.
— Вы что-то потеряли, — пробормотал я. И больше ничего, ничего я не мог придумать.
— Ах так! — Она вернула косу на прежнее место и, постукивая каблучками, ушла.
В следующий раз это было в городском саду. Зеленый свет кино.
— Ах так! — сказала она, увидев меня рядом.
Я молчал.
— Что я потеряла? — насмехалась она.
Какой это был фильм? Я не помню.
А после сеанса мы пошли рядом, и она уже не насмехалась, а была серьезна и только диковато косилась в мою сторону.
А потом, потом прошло много дней, и была тишина ночных улиц, такая тишина, которая на всю жизнь западает в душу. Ведь и сейчас я вижу облитый лунным светом каждый камень на мостовой, заклеенные афишами заборы, над которыми склонился светлый, как снег, жасмин: падают, падают лепестки, они лежат на всем пути…
И вот уже крылечко с медным звонком на двери.
Шум проходящего далеко за городом поезда слышен с такой ясностью, что можно сосчитать, сколько вагонов. В небе яркая, почти синяя звезда. Скамейка холодна от росы. Вот какой-то листик колыхнулся — он встал раньше всех и разбудил всю листву на дереве до самой вершины.
— Почему ты не приезжала сюда раньше? — спросил я.
— А я разве знала?
Эта девушка неожиданно, как цветущая вишенка, возникшая в весенний день на нашей Александровской улице, стала для меня целым миром, в который входили и облака, и луга, и река, и любимые книги, и мать, и сестры, и я сам, — все растворилось и приняло ее образ.
И ее имя — Леля — казалось удивительным и приобрело надо мной волшебную власть. Я повторял: Леля… Леля… Этот звук полон был ласки, любви, обещания счастья.
Я и до этого влюблялся, и однажды на именинах, когда мне было восемь лет, показалось, что я смертельно влюблен в одну девочку с большим розовым бантом по имени Стэлла. У нее были большие, светлые, как небо, глаза. Мы очутились в углу у большого древнего сундука, и я вдруг сказал басом:
— Давай поцелуемся.
— А как целуются? — спросила Стэлла.
— Ты что, с мамой не целовалась?
— Так то с мамой.
Я тоже не знал, как целуются не с мамой.
— Не знаешь? — надулся я.
Стэлла с серьезным лицом, сложив губы сердечком, медленно потянулась ко мне: «Вот так?» — и влепила сладкий и липкий, как малиновое варенье, поцелуй.
Долго после этого я ощупывал губы, и они казались липкими, а Стэлла потеряла всю таинственность. Так кончилась первая любовь.
А после была еще и еще любовь, мгновенно расцветавшая, с тревогами, подозрениями, и исчезавшая бесследно, как цвет с деревьев.
А эта была с беззаветной верой и преданностью.
Помню бесконечно далекий день, ярко-зеленый от листьев и трав и отражения леса в реке, серебряный от блеска воды и мелькания стрекоз. Мы приехали в лодке на рассвете. Желтые лилии спали на воде, как лампы, которые забыли потушить с ночи.
И ты сказала:
— Мы вспомним это утро…
Гляди на меня оттуда, гляди прямо в глаза!
Был вечер, лес отражался в реке, будто на ночь уплывал куда-то вместе с нею. На носу встречной лодки горел костер. Кто это там удит рыбу? Запах яблок… Или это твои губы?
Нет и не будет для меня милее тихой, задумчивой, вечно в памяти моей освещенной светом солнца реки, поросшей желтыми кувшинками. Все плещется о скалы, все журчит, все движется в зеленых берегах моей памяти, и вечно и всегда вижу ее, будто это самая важная река; будто каждая камышинка — волшебная флейта, светящаяся волна — откровение. И каждый плеск ее, каждый шорох в камышах и каждый свист откликается в сердце моем, нежный, бесконечно памятный и созвучный.
И вот уже та ночь.
Только одному мне видная и памятная картина: ночь, костер до рассвета, холодный ветер. Я и теперь вижу ее лицо, вишневую вышивку на блузке. Она глотает лепестки, словно охлаждает припухшие губы.
Что же было после этого? Ведь давнее все помню, слышу и вижу, а что было совсем недавно — исчезло.
…Война. Прощально кричат паровозы. «И что бы ни случилось, не забудем друг друга?» — «Нет». — «Давай поклянемся». — «Давай поцелуемся».
Сколько же лет после этого я не видел тебя?.. Неужели это было только в июне? Одно только письмо дошло до меня.
Ты завидуешь той, которая ближе всех ко мне. Ближе всех — ты… Подойди еще ближе ко мне, ближе, вот так, хорошо!
…Потерпи, миленький, потерпи минуточку, — проговорила девушка в каске и полинялой гимнастерке.
Я очнулся. Легкие руки с белым бинтом летали вокруг головы моей и вдруг туго затянули.
— А-а-а!..
— Знаю, знаю — болит, — сказала она. — Потерпи, голубчик, потерпи, все будет хорошо…
Откуда это все в ней? Как выросло это сердце?
Кто ты? Где училась? В педагогическом или агрономическом, или, может, в авиационном техникуме? Какие книги читала? Что любила? О чем мечтала?
— Сними ты каску! — сказал я.
Она сняла каску и улыбнулась. Что-то светлое, милое, знакомое мелькнуло у самого лица.
— Фаина?
— Фаина, милый, Фаина. Тише…
— А капитан?
— Все уже там, на переправе… Подымайся, милый, подымайся, братику, — говорила Фаина. — Вот так, вот так… Вот какой ты молодец у меня, братику…
Все вокруг завертелось, как в детском калейдоскопе. Она подставила плечо, обняла.
— Вот хорошо, голубчик, вот умница!
И когда я сделал шаг, другой, сказала с детским удивлением:
— Смотри, смотри, пошел!
И так, обнявшись, мы пошли медленно, от дерева к дереву, останавливаясь то у белой, нежно светящейся во тьме березы, то под шумящим всей тяжелой листвой дубом.