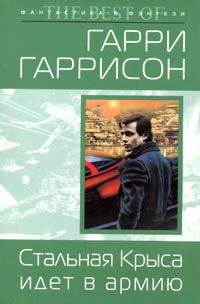Опасаясь, как бы утро не застало его на большой дороге, беглец решил свернуть в сторону и лесом пробиться к «царь-дубу».
Санитар испуганно косился на черную громаду леса, со всей своей немощностью упираясь в землю передними ногами. Михась спешился и потащил лошадь в чащу, как дети тащат на веревке упрямую собаку.
В лесу было темно, как в колодце, только изредка в просветах между ветвями скользил Млечный Путь, помогая всаднику держаться нужного направления. Лесное безмолвие порой разрывал тяжелый храп коня, и слышно было, как падали капли с обсыхавших листьев.
Пока беглец блуждал по лесу, чаща незаметно поредела.
Михась выехал на опушку. Тут столько света и тепла хлынуло навстречу, что Михась спохватился — давно рассвело. Кругом чернела торфяная пустошь, мохнатившаяся кое-где низким кустарником. Вдали клубился легкий туман — предвещал вёдро. Лошадь начала вязнуть в зыбуне, на каждом шагу подолгу судорожно дергала ногой, точно вырывалась из капкана. И тогда Рухло до боли в руке хлестал загнанную вконец клячу. Так подвигались они, пока лошадь не пала на передние ноги и не замерла перед зловещим бездорожьем. И всаднику мгновенно передался ужас бессилия, внезапной дрожью пробежавший по коже коня.
Как ни спешил Михась Рухло, Санитару надо было отдохнуть. Михась решил идти пешком.
Густой зловонный пар шел от клячи. Только теперь заметил Михась, что она засекалась: передние бабки были в крови. При виде этого не жалость, а ярость охватила Михася. Он со всего размаха тяжелой, как кирпич, ладонью ударил клячу по тоскливо отвисшей губе. Потом потуже прикрутил обмотки и, тяжело хромая, повел коня на поводу. Не вел, а словно лямку тянул, поневоле тверже ступая больной ногой. Михась стонал на каждом шагу, и на лице его все резче проступали морщины.
Торфяной кустарник редел. Только одинокий, разбитый молнией, обугленный клен торчал впереди из тумана. Такое же молнией разбитое дерево было и у Рухло во дворе, оно походило на мельничный желоб. И зеленеть давно позабыло, и ветви обломались. Но Михась пощадил его, не срубил: на клене аист свил себе гнездо, и молодой Рухло радовался, что такая большая птица поселилась у него. Михась свирепо оглянулся на коня.
— Мне-то чего мучиться? Ты и сдыхай! — злобно закричал он и, нашарив хворостину, взмахнул на пробу.
Не подошла. Поискал другую, надежнее.
Потом с угрозами взобрался на лошадь и только занес палку, как из поредевшего тумана выплыл «царь-дуб» — вековой великан, огражденный тяжелыми цепями.
Михась был вне опасности.
— Так ты теперь мой, Санитар! — горячо шепнул он ожидавшему удара коню, впервые за ночь назвав его по имени.
Отшвырнув хворостину, слез с коня и так заботливо принялся ухаживать за ним, точно на пахоту собирался. Достал из подсумка старую рубаху, разорвал пополам и туго перевязал бабки. Выпростал удила из взмыленного рта и тут же решил: как вернется в деревню, переменит коню кличку.
Однако до деревни было еще далеко. Лицо солдата кривилось от боли — рана горела. И все же он не садился на разбитого коня: ведь конь теперь стал его собственностью. Время от времени он придерживал Санитара, похлопывал по бокам, и нежной становилась тогда хозяйская рука. И потом человек и лошадь снова тащились, оба хромые, оба нужные невспаханным полям деда Рухло.
* * *Печально встретила Михася деревня. Хаты словно почернели и обветшали. Неприветливо глядели давно не крашенные наличники окон. Старая краска потрескалась, точно перхотью покрывая резьбу. И дорожки у калиток не радовали глаз пестрыми камешками. И на гумнах не стояли могучие стога. А на гулянке вместо нарядных скамеек торчали одни устои — точно руки убитых из окопа.
Только скошенные луга лежали по-прежнему тихо и мирно под теплым полуденным солнцем. И, как всегда, гудела в корчме пьяная, усталая песня возчиков.
Михась свернул к озеру.
Увядшие кувшинки поникли к самой воде. На причале, в береговых зарослях, стояло несколько лодок. Михась тотчас узнал свою плоскодонку. Она почти затонула, борта ее оплели водоросли, уключины были обломаны — давно, видно, ею не пользовались.
«Сызнова все начинать придется», — подумал Михась и при мысли, что дома ждало его столько работы, как-то приободрился.
Михась любил работать. Бывало, когда праздник или непогода связывали ему руки, он бродил по усадьбе как потерянный. Ему все казалось, что доски забора плохо прибиты, что ворота покосились. И с утра до вечера он ходил по двору с топором — то доску приколотит, то столб поглубже в землю вгонит.
Михась без дела — как ручей без русла. О таких народ говорит, что «и помереть ему будет некогда». Сейчас его непривычно волновало сознание, что дома все нуждаются в его руках. Чувство это прибавляло сил. Не терпелось порадовать отца конем. Он весь был во власти этой острой радости.
И только одна встреча, но и то ненадолго, смутила его. Это было уже за гумнами. Впереди показались двое — грудастая солдатка Олена (ее мужа Михась оставил в лазарете) и рыбак Жук, первый весельчак и скрипач на селе.
Они не узнали его, и Михась постарался пройти незамеченным. Он только окинул эту пару беглым, пытливым взглядом. Те шагали торопливо и, судя по непринужденному виду обоих, болтали о пустяках. Но то, что они — не муж с женой — шли вместе, царапнуло Михася ревностью: а не гуляла ли его собственная жена в годы его отлучки? Это подозрение не на шутку задело Михася. Оно застало солдата врасплох. Михась вдруг остановился, точно потерял дорогу. Его невольно потянуло в корчму послушать, о чем говорит народ, какие толки ходят.
Он повернул было обратно, набросив поводья на кол, как вдруг конь заржал, почуяв наконец близкий отдых и покой. Михась умиленно оглянулся на него. Санитар стоял смирно, до того разбитый, что даже не трогал травы, которая густо лезла из канавы. Тощая, длинная шея поникла, как колодезный журавель. Конь до того исхудал — ребра можно было за версту пересчитать. Но его ржание несказанно обрадовало Михася. Оно напомнило, что близок давно покинутый родной очаг. И ревнивое подозрение, смутно шевельнувшееся в груди, тотчас же потонуло в чувстве непомерного счастья.
Отряхнув пыль, Михась отер листьями башмаки и, освежив запыленное лицо озерной водой, свернул на свою улицу.
Еще издали он заметил отца. Старик возился на крыше недостроенной части дома. Постукивал молоток.
Сердце забилось сильнее, и Михась замедлил шаг. Он понял, что отец прилаживает стропило. Дело не спорилось у старого Рухло, не хватало ни силы, ни ловкости. С трудом пригонит нижний конец, а верх уже снова выскочит. Старик поворчит, поплюет в ладони и снова начнет возиться.
— Лезь сюда, придержи на минутку. Извело, проклятое! — позвал он кого-то снизу.
Только тогда Михась заметил присевшую на завалинке жену. Она мешала макуху. Что-то ответив, она тяжело поднялась, поставила ведро корове. В каждом ее движении, во всем ее теле заметно было страшное изнеможение. Одета она была в какие-то лохмотья, на голых руках блестели отруби. Устало и безнадежно опустились углы рта, — видно, давно махнула на все рукой.
«Где уж такой гулять!» — подумал Михась, стыдясь своего недавнего подозрения.
Он открыл калитку. Его уже заметили. В висках застучало — вот-вот жена вскрикнет и опрометью бросится навстречу... Но она только удивленно смотрела в его сторону. Она не узнала мужа, — от этого ему стало легче. Пропустив лошадь вперед, Михась плотно притворил калитку и молвил просто, точно с поля вернулся:
— Ну вот и я, и конь со мной.
— Господи!.. — Уладья всплеснула руками, торопливо одернула подол и, опуская рукава, кинулась навстречу.
Но не добежала и, сразу обессилев от радости, опустилась на землю, разрыдалась.
— Глупая, глупая! — шепнул Михась и подхватил ее.
— Вернулся, значит? — засуетился старик на крыше, но, опасаясь уронить стропило, остался на месте.— Вернулся-таки! — радостно повторил отец. — А она-то все плачет, вот и сейчас ревет. Ничего, бабьи слезы дешевы. Захвати-ка топор да лезь сюда, придержи на минутку. Извело, проклятое...
Некоторое время они молча работали. Забив последний гвоздь, отец подошел к сыну. Был он маленький, сморщенный, как винная ягода, согбенный, будто соха. Он старался бодро выпрямиться, чтобы молодцевато похлопать сына по плечу, но рука не доставала.
— Добре, сынок, добре, — шепелявил старик, поглаживая сына по боку.
Михась все еще держал топор. Размахнувшись, он всадил топор в балку.
Он был дома.
Широка и полноводна река Припять, долго течет она сквозь безлюдные дебри Полесья, сквозь молочные туманы, сквозь тишину вековечной чащи, где птица не пролетит и зверь не пробежит, минует черные хутора полещуков. В прозрачных заводях Припяти ходят тяжелые карпы, и разве только у рыбаков самого пана найдется такой вентерь, чтобы поставить от одного берега до другого. И вот по обоим берегам этой большой реки ходила слава о красном партизане Грабко.