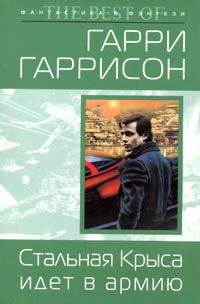В погребе лежало пять винтовок.
— Вот, ежели доведется увидеть Ленина, — сказал обрадованный Пискун, — орден попрошу для тебя!
Старик ничего не ответил, и Пискуна обидело равнодушие, с каким тот выслушал его слова.
Но немного погодя дед, будто вскользь, спросил:
— А Ленин может дать коня?
— Все может, — сказал Пискун, не сдержав улыбки. — Тебе, что же, лучше коня?
— Нет, — смутясь, сказал старик. — Так спросил, все ли, думаю, может?
Пискун не спал всю ночь, веки у него отяжелели. До вечера далеко, можно успеть отдохнуть.
К одинокому Рухло часто заглядывали поболтать соседи. Поэтому партизан пошел спать в погреб.
Старик убавил огня, достал из охотничьей сумки мясо и склянку со стрихнином. Нарезал мясо, начинил отравой. Отравленные куски положил снова в сумку. И вдруг замер... Торопливо протер рукавом запотевшее окно...
По двору шагали жандармы. Снег перед домом был не тронут, а у ворот утоптан и изрыт.
У старика перехватило дыхание. В ушах вдруг зазвенело, и огонь, охотничья сумка, спящий Пискун, Терентий Жук с вывалившимся изо рта языком — все вдруг закружилось и пропало. Чтобы не упасть, дед ухватился за подоконник.
Стук прикладов заставил его очнуться.
«Пропали мы! Не успею разбудить!» — подумал ошеломленный старик.
В отверстие неплотно запертой двери просунулась чья-то рука, стараясь сорвать щеколду. Чужая рука точно околдовала старика, вырвала из него волю. Шатаясь, он двинулся к двери и вдруг ощутил в руке что-то твердое. Склянка... Старик бессмысленно уставился на нее, потом подбежал к котлу, высыпал в него всю склянку.
Их было четверо. Один оказался старым знакомым Рухло: мозырский приказчик Папавец. После прихода немцев мозырский приказчик стал правой рукой жандармов. Его, как местного уроженца, ценили на вес золота. Папавец вошел первым. Рябое лицо его заплыло жиром. Из-под косматых бровей алчно поблескивали глаза. На левой щеке краснел свежий шрам.
Следом шагал усатый верзила унтер. Не успев войти, закашлялся. Кашлял яростно, словно угрожал: «Дайте кончить — я вам покажу!..»
Третий, стуча сапожищами, ввалился прямо в горницу, сорвал с головы ушанку и отряхнул снег. Лицо его было охвачено, как пламенем, рыжей щетиной, один сапог хлюпал, оставляя на полу мокрый след. Четвертый жандарм стал в дверях.
Рухло сначала думал, что они пришли по следу Пискуна за винтовками. Но по тому, как беззаботно и смело вошли они в дом, старик понял, что жандармы искали пшеницу. Это было не менее страшно. Озверелые от голода немцы ломали все, что было на запоре. Проникали во все закоулки и щели и даже постели протыкали штыками.
— Э, да здесь и угощение готово! — загремел Папавец и осветил головешкой дымящийся котел. — Мясо, пан, похлебка по-нашему! Обыскать успеем, — продолжал, жмурясь от удовольствия, бывший приказчик.
— Я уже позабыл, как мясо едят, в этой проклятой стране! — сказал унтер.
Папавец прислонил винтовку к стене.
— Ты, козлиная борода, сиди здесь — и ни с места! — прикрикнул он на старика и принялся хозяйничать, словно у себя дома.
Придвинул к огню лавку, сбегал в чистую половину хаты и заглянул в приоткрытый сундук.
Остальные в ожидании вкусного ужина с разомлевшими лицами следили за Папавцом.
— Спросите этих сукиных детей — так они корки хлеба не видали, — загрохотал унтер, — а посмотришь — что ни дом, то полная чаша!
— Их разве только намыленная веревка проучит, — сказал рыжий.
— Весь свет обошел, — продолжал унтер, — исколесил Карпаты, поля Румынии истоптал, наш полк вошел первым в Перемышль, но такого злого, нерадушного народа никогда еще не видывал. Ты хоть подыхай...
Кашель оборвал его слова. Он приставил ко рту волосатый кулак и загрохотал с такой силой, что глаза у него налились кровью. С трудом откашлявшись, сердито выдохнул:
— Хоть подыхай — воды напиться не дадут!
— Или дадут такое, что у тебя все нутро наружу вывернет! Недавно наш Зарецкий пришел к кому-то, водки попросил. Ему подали — да такую, что не приведи господь! Всю ночь в собственной блевотине катался да волосы на себе клочьями рвал.
— Отравили?
— Ну да! Если бы водка человеку вредила, давно бы мы все передохли, — сказал унтер и вдруг расхохотался.
— Так, так, старик, дешевле обойдется! — крикнул унтер деду, нагнувшемуся над огнем.
Рухло вздрогнул. С самого начала слушал он разговор жандармов и, чтоб не выдать волнения, набил трубку, достал из пламени горящую веточку. Но, растерявшись от страха и ожидания, старик вместо трубки поднес ко рту ветку. Он попробовал улыбнуться, но только жалко оскалил зубы.
— Вы смеетесь, пан, — сказал рыжий, — вы смеетесь, а мне что-то не нравится этот старик... Вот гляжу — и не нравится он мне!
— Видно, не все успел припрятать, одурел с горя, — рассмеялся Папавец, ставя котел на лавку.
Жандармы уселись. Пес, махая хвостом, умильно заглядывал в глаза гостям. Папавец роздал ложки, одну протянул Рухло.
— Кушайте, я только что отобедал, — сказал старик. — Отобедал, — повторил он, потому что вместо слов у него вырвался какой-то хрип.
— Ешь! — не то умоляя, не то приказывая, сказал рыжий и вдруг изменился в лице.
— Эге, да ты, видно, здорово напуган водкой Зарецкого! Ежели что в самом деле... так вот пес, и черт с ним! А ему несдобровать! — закричал Папавец и только хотел было бросить кусок мяса собаке, как Рухло схватил его за локоть.
На побледневшем лице старика отражалась жестокая борьба: борьба между страхом смерти и желанием спасти Пискуна.
Все равно сам он обречен. Рано или поздно неизбежное должно было свершиться.
— Как можно, пан! Нет у меня столько мяса, чтобы кормить собак, — тихо выговорил Рухло.
Взял у Папавца кусок, неторопливо начал есть, и тотчас четыре ложки, как волчьи лапы, опустились в котел.
Дед сел. Обхватив ногами скамью, уперся в стену. Не дрогнуть бы, не выдать себя, когда станет его душить вошедшая в утробу черная смерть...
— И меня было ввел в сомнение, — сказал Папавец и ткнул рыжего локтем.
— Мы во вражьей стране, а у осторожных голова не болит, — чавкая, ответил рыжий.
Пес скулил, в нетерпении бил хвостом по земле, но теперь уже никому не приходило в голову поделиться с ним куском.
Ветер сотрясал стены хлева, хлопал неплотно прикрытой дверью и пронзительно свистел, не в силах протиснуться в дымовую трубу. За окном падал снег. Старик смотрел на хлопья, они порхали, как большие бабочки, и острая тоска подступила к сердцу. Какое-то беспокойство овладело им. Этот обильный снег мучительно напоминал ему о далекой юности, о том, чего второй раз не бывает в жизни.
В гаснущем сознании деда вставали дни, давно развеянные, как дым и пепел. В гудении ветра ему чудился звон колокольчиков, плач гармоники и гиканье парней — они вихрем неслись мимо девичьих окон. Бывало, как запрягут в понедельник на масленой лошадей, так вплоть до воскресного вечера и не распрягают.
Вдруг по телу деда Рухло пробежали мурашки, и голова его вскинулась кверху, словно от икоты.
«Началось», — подумал старик, и смерть дохнула ему в лицо.
* * *Под вечер метель утихла. Сорванные с крыш тесины и клочья разворошенных стогов опустились на землю. Согнутые березы расправили плечи, и дым выровнялся над трубами.
Некоторое время по двору еще шуршал снег, потом с озера донесся легкий хруст — подмерзала прибрежная вода. Отблеск белых полей смягчал черноту ночи.
Всю ночь шагал Пискун, неся на руках мертвого деда. Взмокнув от пота, с трудом обходил высокие сугробы.
— Родной мой!.. — шептал он, прижимая к груди скорченное тело старика, и нес его к лесу так бережно, как мать несет спящего ребенка.
Несколько капель упало на безжизненное лицо деда. Не слезы — пот. Слез давно уже не было у Пискуна.
Мозырь — Тбилиси
1938
Перевод Э. Фейгина
Перевод Э. Фейгина
Перевод Э. Фейгина
Перевод Э. Фейгина
Чвениа — наш, свой.
Перевод Э. Фейгина
Перевод Б. Корнеева
Белогвардейские банды, орудовавшие на территории Полесья, смежного с Украиной, нередко назывались гайдамацкими.