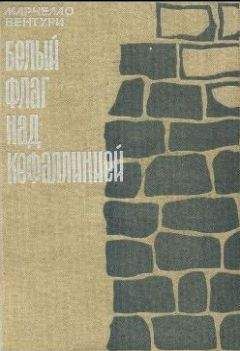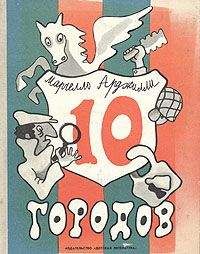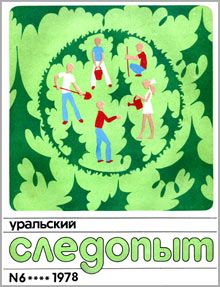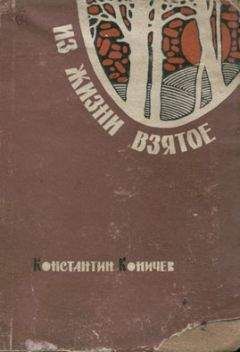Не хотелось об этом думать. Война окончена, скоро всех распустят по домам. Сейчас надо восстановить нить, которая оборвалась на все эти долгие годы. Прислушиваясь к голосам и звукам острова, он пытался вспомнить голоса и звуки родных улиц, вспомнить комнаты своего дома — такие далекие, что не верилось в их реальное существование, — представить себе лицо и глаза Амалии. Он вспомнил сына. Сколько раз он его видел с момента рождения? Облик мальчика расплывался и был таким же чужим, как голос Амалии. Перед его глазами вырисовывалось лицо Амалии — холодное, суховатое, хотя и красивое, — но представить себе ее голос, воскресить его в памяти он не мог.
Его разбирала злость: неужели так и не удастся вспомнить, какой у Амалии голос? Это была даже не злость. Его охватило какое-то смятение. Он снова и снова пытался восстановить в памяти забытый тембр, пожалуй, сам не совсем сознавая, зачем ему это.
Голос у нее был мягкий, хотя и сильный; по мере того как она говорила, он становился нежнее… Но как только ему начинало казаться, что он вспомнил, он в отчаянии спохватывался: это был вовсе не голос жены, а голос Катерины.
«Катерина… Прежде, чем покинуть остров и вернуться домой, надо зачеркнуть целый кусок жизни — долгие годы войны. Надо вычеркнуть из памяти Катерину».
Силясь воскресить прошлое, он устремлял застывший взгляд куда-то вдаль, в пустоту, и в памяти возникали тройники в Ломбардской долине, неподалеку от Милана, где он гулял со своей девушкой, — в ту пору Амалия еще была его девушкой; вспоминал, как они сидели у каменной ограды возле старой фермы. В то же время он видел дороги, которые вели на Аргостолион и по которым катились маленькие, сверкающие, точно игрушечные, автомобили; их становилось все больше и больше, и все они устремлялись к городу.
Он мысленно воспроизводил разговоры, которые они вели с Амалией, сидя под увитой плющом каменной оградой, но и это не помогло — вспомнить ее голос не удавалось. Она являлась перед ним либо совсем немая, либо с голосом Катерины. Одновременно он слушал своих офицеров — они докладывали о полученных по телефону распоряжениях командования.
«Всем старшим офицерам дивизии надлежит явиться к генералу для участия в военном совете. Генерал намерен обсудить требования подполковника Ганса Барге».
«Неужели сдадимся?» — спрашивал себя капитан.
«Командирам подразделений оставаться на местах».
Капитан направил бинокль на город, пытаясь отыскать среди нагромождения домов знакомый фасад итальянского штаба. Ему показалось, что он его узнал и даже увидел в окно сидевшего за письменным столом генерала в тот самый момент, когда тот, не отрывая глаз от листа бумаги, белевшего в его бессильно упавших на стол руках, выслушивал соображения старших офицеров. Капитану почудилось даже, что он может различить, что написано на листе, который держит в руках генерал: это был приказ «Супергреции» о сдаче оружия подполковнику Гансу Барге.
Капитан перевел бинокль на «юнкерсы». Они по-прежнему летали в поле действия зениток. И он снова подумал, что из-за этого проклятого мундира приходится ждать, пока кто-то примет решение и за тебя, капитана Пульизи. «Что ж, в конце концов это даже удобно — пускай за меня решают генерал или созванные на военный совет старшие офицеры».
«Какое, однако, они примут решение?» — спрашивал он себя.
Вскоре крохотные автомобили выехали из Аргостолиона и устремились по дорогам острова в обратном направлении: старшие офицеры возвращались на свои командные пункты. По склонам холмов и гор, среди сосновых лесов вновь замелькали яркие блики — отсветы автомобильных стекол и полированных крыльев машин. Зазвонил полевой телефон, и незнакомый телефонист произнес:
— Все старшие офицеры, кроме двух, высказались за сдачу оружия немцам.
«Завтра, в 11 часов утра, на площади Валианос», — машинально повторил про себя капитан Альдо Пульизи. Встретив вопрошающий взгляд Джераче, офицеров, солдат, чтобы не видеть их глаз и не отвечать на их вопросы, он отошел подальше от палатки и сел под оливой, откуда был виден залив и весь Аргостолионский полуостров до самого мыса Святого Феодора — широкая пустынная морская гладь.
«Правильно ли это решение?» — спрашивал себя Альдо Пульизи.
«Ведь правительство Бадольо требует беречь оружие и в случае нападения противника защищаться. Дивизия в состоянии не только обороняться, но и разоружить солдат Ганса Барге; она может это сделать за несколько часов. Так почему же решили сдаваться? Почему предпочли подчиниться «Супергреции», а не приказу законного правительства?»
Он встал, как бы пытаясь бежать от самого себя, чтобы не отвечать на собственные вопросы. Злости больше не было: наступила апатия. Где-то позади него возбужденно говорили, кричали артиллеристы.
— Нас десять тысяч, а их — три, — то и дело повторяли они, и приходили все к той же мысли: стоит генералу и старшим офицерам подчиниться приказу правительства, и немцы сдадутся без единого выстрела. Солдаты задавали тот же вопрос, что и он: «С какой стати мы должны сдаваться?»
— Чтобы вернуться домой, — ответил кто-то. — Если мы сдадим оружие, немцы отпустят нас по домам.
Но эти слова утонули в хоре возмущенных возгласов. Никто не верил, что после сдачи оружия немцы отпустят их на все четыре стороны.
Альдо Пульизи прикрикнул:
— Вы что, военного трибунала захотели?
Голоса стихли, на холме воцарилась тишина; еще отчетливее стало слышно гудение автомобильных моторов и рокот «юнкерсов». Но стоило капитану отвернуться — он опять ушел под оливу, — как солдаты снова заговорили.
Он сидел, прислонившись к стволу дерева (в памяти опять возникла каменная ограда старой фермы); солдатские голоса, так сильно отличавшиеся от голосов Амалии и Катерины, не доходили до сознания. Он говорил себе: «Сейчас, после того как я переменил столько мундиров, важно одно: снять мундир навсегда, вернуться к себе домой, получить возможность ходить по улицам родного города под руку с Амалией, узнать наконец своего сына. Иными словами, оставить Кефаллинию ее обитателям, оставить Грецию и все остальные оккупированные итальянцами земли их народам. Предоставить Катерине Париотис самой решать свою судьбу. Вот что сейчас важно. А будет ли окружен немецкий гарнизон и кто сильнее — итальянская дивизия или немецкие солдаты, генерал или подполковник, — это меня не касается. Хорошо бы сесть на первый попавшийся пароход, направляющийся в итальянские воды, и уехать — с оружием или без оного, не все ли равно. Если как следует вслушаться в разговоры солдат, то и в них сквозит та же мысль. В конце концов все их рассуждения о том, надо ли разоружить немцев или разоружиться самим, подсказаны только желанием вернуться домой».
Он встал и направил бинокль вверх, туда, где вилась узкая дорога на Кардахату.
— Капитан, смотрите! — крикнул кто-то.
По узкой открытой тропе двигалась колонна солдат и машин: это спускался в долину, направляясь в Аргостолион, третий батальон 317 пехотного полка.
«Что происходит? — удивился капитан, — почему пехота покидает такое важное в стратегическом отношении пересечение дорог?»
— Идут сдавать оружие! — крикнули ему артиллеристы.
— Скоро и мы получим приказ. Все пойдем на площадь Валианос.
«Все может быть», — подумал капитан.
Части начали подтягиваться к городу для сдачи оружия. Вдруг все происходящее показалось ему невероятным, как будто лишь сейчас, увидев эту колонну солдат на марше, он понял всю нелепость создавшегося положения. Он опустил бинокль и продолжал вглядываться вдаль. Солнце слепило глаза.
Позади послышался голос Джераче.
— Это все генерал, — проговорил он. — Это он распорядился оставить Кардахату.
Кто-то крикнул:
— Генерал нас предал!
Альдо Пульизи не мог оторвать глаз от горной тропы, кишмя кишевшей солдатами и машинами. «Через несколько часов, а может быть и минут, его тоже позовут к полевому телефону, и он, капитан Альдо Пульизи, наверняка тоже получит приказ спускаться со своими артиллеристами в город. А завтра в одиннадцать ноль-ноль пехотинцы и артиллеристы дивизии «Аккуи» с развевающимися знаменами выстроятся в каре на площади Валианос и под музыку и аплодисменты многочисленной публики сдадутся немцам. Какой смысл во всем этом?»
Но ответить он пока не мог. Ему все еще не удавалось восстановить в памяти голос Амалии: в ушах по-прежнему звучал голос Катерины. «Он будет ждать приказа командования. Скорее бы дошла до них очередь. Чем сидеть здесь и ждать, лучше уж спуститься в долину до наступления темноты».
Он почувствовал себя бесконечно одиноким, отрезанным от всего мира. «Наверное, то же чувство одиночества испытывают сейчас и мои солдаты, все итальянцы, находящиеся на острове, — подумал он. — Бросили нас здесь, посреди моря, и не пришлют из Италии даже паршивенького самолетика, узнать, как мы тут… Генералу сейчас тоже, наверное, одиноко».