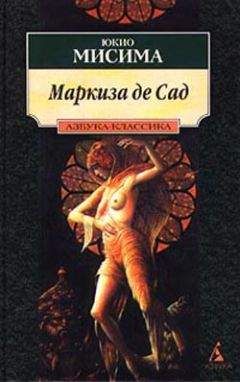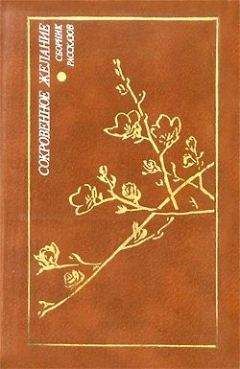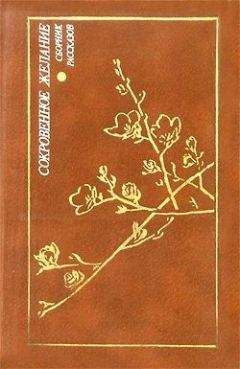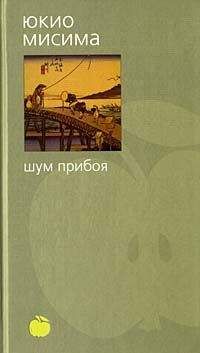— Да они, видно, порции по три съели, вот и осталось.
— Это уж точно! — подхватил Тадзаки. — И хлеба, наверно, кусков по десять сжирают.
Вымыв посуду, солдаты расходились по своим палаткам, помахивая судками. Некоторые подходили к проволочной сетке взглянуть на новое пополнение.
После обеда в сопровождении все тех же двоих охранников появился офицер и какой-то японец.
Смуглый, коренастый, он был одет почему-то не в зеленую австралийскую форму, а в рубашку цвета хаки.
Войдя в палатку, он спросил обыденным тоном:
— Обедали?
Говорил он на очень правильном японском языке. Пленные в замешательстве молчали. Тогда японец снова спросил:
— Еды, конечно, не хватило?
Ёсимура неохотно подтвердил.
Тогда японец с легким смешком сказал:
— Для начала вполне достаточно. Пленным, которые прибывают сюда, кажется мало, однако сразу есть досыта вредно — можно испортить желудок.
И, усмехнувшись, он ушел с офицером в пустую палатку.
Такано последовал за ним. Лицо у него было суровое.
В палатке стоял длинный стол и лавка.
— Пожалуйста, сюда, — пригласил офицер, и Такано сел напротив него. Японец, видимо уроженец Соединенных Штатов, расположился рядом с офицером и сразу же заговорил:
— Почему, когда вас допрашивали на передовой, вы не сообщили своего имени и звания? Скажите нам, как вас зовут и в каком вы звании.
Такано молча разглядывал японца. На вид ему можно было дать лет тридцать с небольшим. На круглом лице — узкие, как будто добрые глаза. Однако в выражении лица была заметна какая-то несвойственная японцам сухость. «Что он за человек? — подумал Такано. — Говорит, не обращая внимания на офицера, по-японски изъясняется совершенно свободно. Как он оказался в австралийской армии? Кто он?»
Такано молчал. Тогда японец настойчиво повторил вопрос:
— Так и не назовете своего имени?
Такано не ответил.
— В таком случае вы ставите нас в затруднительное положение. Кстати, звание ваше мы уже знаем. На вашей гимнастерке были погоны фельдфебеля. Не так ли?
Такано удивленно поднял брови — странно: рядовые солдаты, а в японских знаках различия разобрались.
— Вы немного насторожены. Беспокоитесь, что мы сделаем вам что-нибудь плохое? Думаете: поговорят тихо-мирно, а потом отвезут куда-нибудь и начнут пытать. Не так ли?
Японец внимательно глядел в лицо Такано, опустив руки со сцепленными пальцами на бумаги, лежащие на столе. На одном пальце поблескивало толстое золотое кольцо. Такано по-прежнему молчал.
— Успокойтесь, ничего подобного не случится, — продолжал японец. — Конечно, мы хотели бы получить информацию о японской армии, но насильно выпытывать у вас то, чего вы не желаете сказать, не будем. Применить насилие — значит нарушить Женевскую конвенцию, а этого мы не можем допустить. К тому же мы, в общем-то, уже осведомлены о положении японской армии на острове. Каждый день сюда доставляют одного-двух пленных. Среди них попадаются такие же молчаливые, как вы, но те, кто сами подняли руки и перешли к нам, готовы рассказать все что угодно. Мы знаем примерно и численность, и расположение частей вашего полка. Вы можете и не говорить, из какой вы части, мы все равно уже давно поняли, что вы из батальона Мураками. Не так ли? Не хотите закурить? — Японец протянул Такано сигареты, внимательно глядя ему в глаза и словно стараясь понять, о чем тот думает.
— Я не курю, — с трудом выдавил из себя Такано. В первый раз за сегодняшний день он раскрыл обросший черной щетиной рот.
Такано не ожидал, что противник так подробно осведомлен о положении японской армии. Информация могла просочиться через туземцев — за последнее время немало туземцев перебежало к противнику. Сведения о передовых частях — например, тот факт, что полковника Яманэ сменил полковник Кадоваки, — видимо, стали известны австралийцам от пленных солдат. Их, судя по всему, здесь немало.
— Ну что ж, — с сожалением сказал японец, когда Такано отказался от сигарет. Он вытащил одну сигарету и закурил. — Мы вовсе не ждем от вас какой-то информации, нам все уже известно. Но, не зная вашего имени, мы не сможем отослать вас в тыл. Поэтому назовите себя хотя бы.
Мужчина умолк и заглянул в лицо Такано.
Однако Такано по-прежнему молчал. Он сидел неподвижно, глубоко запавшие глаза на покрытом темной щетиной лице были закрыты.
— Вы… Имя… Нет? — спросил вдруг на ломаном японском языке до сих пор молчавший офицер. Такано открыл глаза и взглянул на него. Офицер насмешливо улыбался и как будто не сердился. Это был довольно пожилой мужчина с очень светлой кожей, с залысинами на лбу, в очках без оправы.
— Этот господин, — заметил японец, — учит японский язык. Он офицер службы информации штаба.
— А вы? — резко, не давая японцу опомниться, спросил Такано.
Японец, видно, и не собирался ничего скрывать. Он спокойно ответил:
— А я старший унтер-офицер штаба. Вообще-то я служу в американской армии, а к этой части прикомандирован временно. Зовут меня Арита.
Такано кивнул.
— Ну а вы? — продолжал японец. — Пожалуй, пора и вам назвать себя.
— Вы хорошо говорите по-японски, — не отвечая на вопрос, заметил Такано. — Бывали в Японии?
— Я родился на Гавайях, но жил в Токио, учился там в средней школе и в институте.
— Вот как!
Теперь, когда он узнал, кто такой Арита, Такано почему-то проникся к нему доверием, и напряжение, которое он испытывал до сих пор, исчезло: он как будто даже забыл, что находится в плену.
— Вы… быстро… говорить имя! — выпалил офицер.
— Да, назовите себя, — сказал Арита. — Вы же знаете, что, согласно Женевской конвенции, мы должны сообщить японскому правительству имя, звание, часть, а также возраст, местожительство, занятие и семейное положение пленных. Через Международный Красный Крест мы сообщаем, что на основании Женевской конвенции взяли под свою защиту такого-то или такого-то. Вы знаете об этом?
Такано покачал головой.
— Неужели не знаете? Вот как! В японской армии даже фельдфебели ничего не знают о Женевской конвенции! Недавно здесь был поручик, так он тоже впервые о ней услышал. Поймите, если вы не скажете свое имя, вы поставите нас в затруднительное положение. Назовите только имя. Номер вашей части, семейное положение и прочее можете не сообщать. Только имя!
Такано продолжал молчать. О Женевской конвенции он не слышал, но ему было известно, что списки пленных будут посланы японскому правительству. Он не хотел, чтобы его имя попало в эти списки. Более того, с сегодняшнего утра Такано не переставал твердить себе, что теперь он не имеет права жить — он же попал в плен!
Когда солдаты противника окружили их там, возле бомбоубежища, он и сам не заметил, как поднял руки. Такано до сих пор не мог понять, почему он это сделал. Возможно, потому, что Ёсимура поднял руки… А он уже просто по инерции. Однако дело было не в этом. Он должен был сражаться до последнего дыхания. Тогда он выполнил бы свой долг, как младший офицер, и оправдал бы себя в глазах других. Но он этого не сделал.
Да, именно то, что он поднял руки, и определило все дальнейшее. Когда их везли в часть, в голове у него стучала одна мысль: «Бежать! Бежать! Побегу — непременно застрелят. Но этого-то мне и надо. Да, я должен бежать». В памяти возникали лица погибших солдат и офицеров — мертвые лица. Сколько их прошло перед ним за то время, пока он командовал отделением, взводом и, наконец, был заместителем командира роты! А он все еще жив! Попал в плен и жив! «Я должен бежать! — кричало его сердце, — Я не имею права оставаться в живых!»
— Вы, наверно, считаете плен позором? Не так ли? А мы совершенно не понимаем, почему попасть в плен в таких условиях, в каких оказались вы, позорно. Но лучше оставим этот разговор. Мы подождем, пока вы не скажете свое имя. Обычно на другой день после прибытия мы отправляем пленных в Торокина. Но вас мы, вероятно, оставим здесь. А пока подумайте хорошенько. На этом сегодня закончим. Можете идти.
Затем так же поодиночке были вызваны Ёсимура и Тадзаки, и им задали те же самые вопросы.
Ёсимура откровенно ответил на все вопросы, касавшиеся лично его. Он почувствовал к Арите расположение, у него было такое чувство, будто он встретился со своим земляком. Кроме того, он не сомневался в том, что Арита говорит правду. Сегодня утром, когда Такано одернул его, Ёсимура подумал, что он и в самом деле сплоховал, назвав свое имя. Но теперь это уже не так сильно тревожило его. Он верил Арите, который утверждал, что здесь с ними не будут жестоко обращаться. Слушая Ариту, он думал: «Убивать нас не собираются, может быть, пошлют в Австралию и заставят работать, и не исключено, что используют на тяжелой работе, но война когда-нибудь да кончится, и нас отправят на родину». О том, что будет с Японией, когда кончится война (вернее, когда Япония ее окончательно проиграет), Ёсимура совершенно не мог себе представить; не мог думать и о том, что станет с пленными, когда они вернутся домой. Однако всевозможные тревоги, мучившие его до сих пор, рассеялись. И он впервые понял: все его рассуждения о том, что он причинит неприятности семье и землякам, что нельзя оставлять позорное имя на этом свете, теперь, когда он в плену, не имеют смысла.