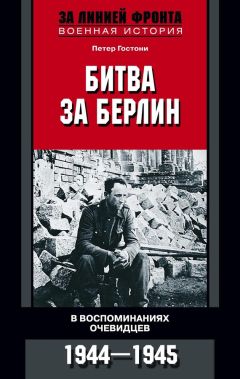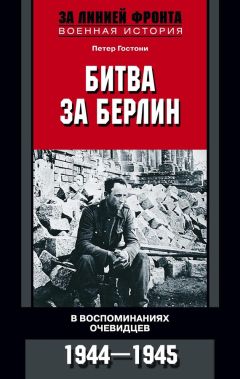Это была спальня. Люстру с потолка аккуратно сняли и положили на кровать, не разбив при этом ни одной хрустальной капли. Смотанная втрое капроновая нить одним концом крепилась за крюк на потолке. На другом конце была петля и голова очередного висельника. Мужчина лет тридцати, одетый в майку, в форменные штаны с узкой линией лампасов, висел в петле, низко опустив голову. Босые ноги с постриженными ногтями болтались сантиметрах в тридцати от пола. Неподалеку валялась перевернутая трехногая табуретка и обрывок газеты, который висельник подстелил, чтобы ничего не испачкать. В ногах у повешенного сидела, поджав под себя ноги, пожилая морщинистая немка, обнимала его за лодыжки и что-то тихо напевала. Судя по ритму – колыбельную. Она не смотрела на вошедших – ее водянистые глаза были обращены внутрь себя.
– А чего это мы тут в неглиже?.. – начал было Борька. – Дышите, больной, как говорится, не дышите…
– Не юродствуй, – проворчал Хорьков. – Поимей хоть кроху уважения. Мать потеряла сына. На фотках в зале оба есть, он у нее, кажется, офицер люфтваффе… был.
Женщина уловила посторонние голоса. На пару мгновений ее взгляд вроде бы прояснился, стал осознанным, она оторвалась от сына, медленно повернула голову, уперлась глазами в Хорькова, и тот вдруг побледнел, напрягся. Скулы женщины побелели, она открыла рот и хрипло исторгла несколько слов, а потом снова прижалась щекой к ноге сына. Спутанные пряди заслонили лицо.
– Вроде как прокляла Хорькова, – не совсем уверенно подметил Борька.
– Бабайку наслала, – машинально согласился Максим.
– Только мы взрослые и в Бабайку не верим, – вздохнул Соломатин. – Но знаете, мужики, что-то мне расхотелось в этой квартире ночевать. Здесь, конечно, хорошо… но, может, в другом месте еще лучше?
Они на цыпочках попятились из комнаты и вывалились на лестничную площадку.
Остальные три двери были заперты. Конечно, можно было их вскрыть – то есть расстрелять, – но это разбудило бы солдат, отдыхавших на первом этаже. Бойцы схватились бы за автоматы и понеслись бы вверх, проклиная тех, кто посмел лишить их заслуженного отдыха… Да и сил уже не было ломать эти чертовы двери.
И вдруг в сорок седьмой квартире что-то упало, покатилось по полу. Штрафники застучали в дверь, отступив за косяки – во избежание «шальной» автоматной очереди.
– Откройте, милиция! – пошутил Соломатин.
За дверью испуганно помалкивали. Пришлось-таки взломать – парой ударов прикладами в область замка. Дверь распахнулась вместе с расщепленным косяком. Солдаты ворвались в квартиру с автоматами наперевес. В проеме на кухню, держась за косяки, стояла молодая женщина в серой кофточке, наброшенной на домашнее платьице. Она смотрела на солдат с неподдельным ужасом, а когда Максим приблизился и вежливо оттер ее плечом, зажмурилась от страха.
– Есть еще кто-нибудь в квартире, фройляйн? – осведомился Максим на вполне понятном немецком.
Женщина лихорадочно замотала головой. Ей было не больше тридцати, и она была отлично сложена – упитанная, с большим бюстом. Пепельные волосы, спадающие на плечи, были аккуратно зачесаны от лица. Жалобно моргали блестящие голубые глаза. «Что за мода у этих европеек выщипывать брови? – недовольно подумал Максим. – Неужели считают, что это здорово? Ведь лицо становится каким-то голым, неинтересным».
Но выщипанные брови «фройляйн» не смутили остальных мужчин. Молодая немка была чертовски хороша. Хорьков подбоченился, стал бравировать своей преждевременной сединой. Борька сделался задумчивым и меланхоличным, замурлыкал: «Ты, любимая, знаю, не спишь и у детской кроватки тайком стрептоцид принимаешь…» – упомянутым лекарством в суровые военные годы лечили венерические болезни.
Поверить на слово сексапильной немке было бы глупо. Солдаты обследовали двухкомнатную квартиру, вышли на балкон, обшарили кухню и уставленную коробками кладовку – при этом все время косились на оробевшую хозяйку. А что? – нормальные молодые парни, немного, правда, уставшие, немного чумазые, вонючие, но ведь война идет, уж об этом уважаемая фройляйн должна быть в курсе?
– Спроси, ее не Гретхен зовут? – ткнул Соломатин Максима.
– Никаких заигрываний, товарищи бойцы, – оборвал его Коренич. – Или еще чего похуже. Не забывайте, что завтра снова в бой, а отдыхать осталось мало.
– Ну, пожрать-то она нам может приготовить? – разочарованно протянул Хорьков.
Женщина испуганно таращилась на чужаков, прижимала тонкие руки к груди, нервно теребила застежки кофточки. Максим вежливо расспросил ее – и узнал, что зовут даму не Гретхен, а Эрика. Эрика Виланд. Никакая она не фройляйн, а фрау. Детей нет, муж погиб на Восточном фронте в сорок втором, с тех пор живет одна, работала кассиром в районном отделении Рейхсбанка, но вот уже неделю как на работе не появляется, потому что отделение закрылось, и ходят страшные слухи, что в Третьем рейхе закончились деньги… Она не имеет отношения к войне, если господа собрались ее изнасиловать, то пусть это делают быстрее, она не будет кричать и сопротивляться, только не надо ее убивать… Не собираются насиловать и расстреливать? Как это? Ведь советские солдаты только тем и занимаются – об этом говорят все подряд в очередях за хлебом… Нет, она не против приготовить русским солдатам горячую еду, но только в том случае, если у них есть продукты. Электричество пока не отключили, плита работает, вот только досада – два дня назад перекрыли подачу воды, теперь туалетом приходится пользоваться реже, а за водой выстаивать немыслимые очереди на колонке в соседнем квартале. Но она набрала канистры намедни утром, пока вода есть, если господа желают помыться… А с едой в Берлине действительно туго. Люди помешались на еде. Обменивают на продукты все, что находят ценного у себя в жилище. Ведь «кризисные рационы» такие скудные. Немного копченой колбасы, сушеный горох, рис, горстка бобов или чечевицы, четыре кусочка рафинада, какое-то количество калорийных жиров… Люди выкручиваются как могут, многие варят картофель на своем балконе – на костре, обложенном кирпичами. Но она не страдает, если господам солдатам нужна еда, то она с удовольствием отдаст свои последние продукты на нужды Красной армии. Ведь беженцам, уехавшим из Берлина в Силезию, сейчас еще хуже. Здесь хоть какая-то пища есть. А в тех краях люди питаются травой и корнями деревьев…
– Ох, нищета подзаборная, – разочарованно ворчали солдаты, вытаскивая из мешков банки с тушенкой, гречневой кашей, консервированными сардинами.
Эрика загремела сковородками, зажгла плиту, и по кухне поплыли восхитительные запахи.
Эрика разложила диван в гостиной. Там же обнаружилось раскладное кресло. Женщина дрожащими руками вынимала из шкафа стопки чистого постельного белья. Борька из кухни, подперев косяк, задумчиво ощупывал ее взглядом.
– Мужики, ей-богу, – устало бросил Максим, – не нужно к ней приставать, нормальная вроде баба, пусть живет. Она и без нас зашуганная – вон как косится. Пусть запирается у себя, не будем ее трогать.
– Но компанию-то она нам за ужином может составить? – ерепенился Борька, и возбужденный Хорьков энергично ему поддакивал.
Прозвенел телефон, и все вздрогнули. Эрика отпрыгнула от кровати, взялась за сердце, капельки пота заблестели на лбу. «Взволнованная она какая-то, – недоуменно отметил Максим. – Вроде неглупая баба, должна понимать, что к чему, видит, что перед ней тут не звери с клыками…»
Женщина сняла трубку телефона так опасливо, словно та была подключена к сети высокого напряжения.
– Ало, – пробормотала. – Здравствуйте… – и ее аппетитные щечки заалели.
Потом она несколько раз произнесла слово «да», чередуя его с «нет» и «не знаю, герр офицер». Максим покосился на параллельный аппарат, установленный на кухне («роскошно живут фрицы!»), подошел к нему на цыпочках, тихо снял трубку.
– Спасибо, фрау, ваша информация неоценима для германской армии, – доносился с другого конца эфира немного расстроенный, но волевой мужской голос. – Ваш дом, напомните… Людвигштрассе, 29?
– Да, герр офицер…
– Не могли бы вы, фрау, выйти на улицу и убедиться, где именно и в каком количестве располагаются русские войска? А потом перезвонить по телефону, который я вам продиктую? Поверьте, наша отчизна была бы перед вами в неоплатном долгу. Если вас, конечно, это не затруднит…
– Простите, герр офицер, – умирающим голосом отозвалась Эрика, – я очень устала, не могу никуда идти, у меня в последние дни сильно болят ноги…
Она, поколебавшись, положила трубку и правильно сделала. И тут Максима прорвало. Он орал в мембрану популярные и малоизвестные русские выражения, среди которых не было ни одного приличного. Он подробно расписал, где он видит немецкое командование и всю его родню, что он с ним сделает, когда встретит, и насколько скоро это радостное событие произойдет. И многое, многое другое – при этом Борька и Хорьков смотрели на него с растущим уважением, а у Эрики из рук упали простыни.