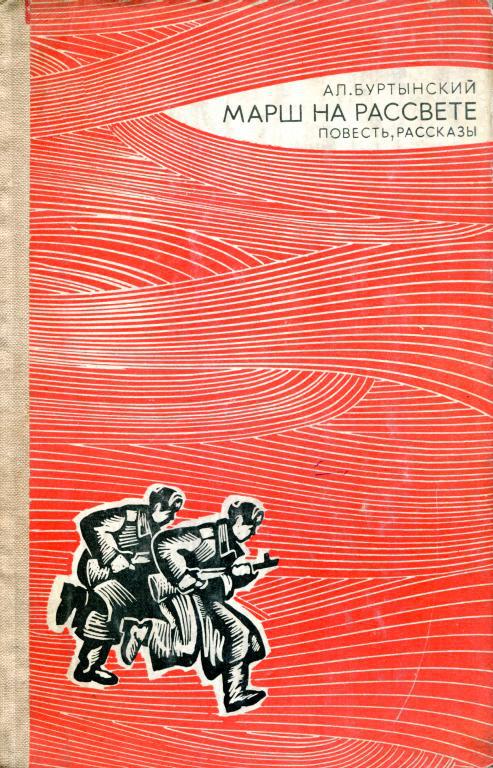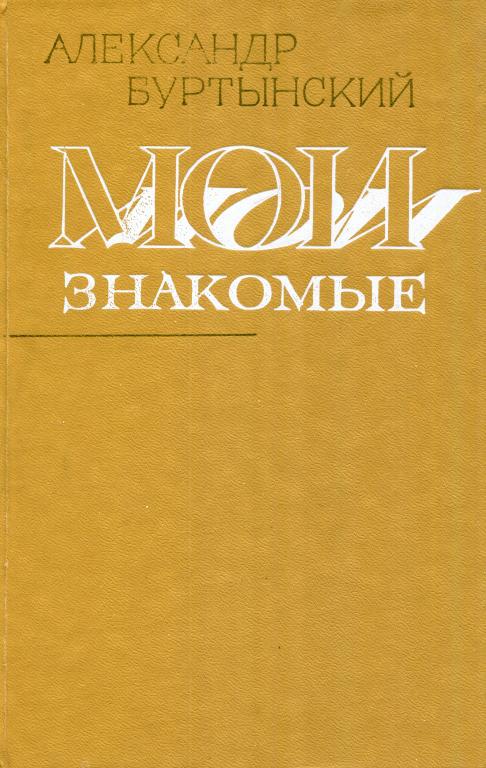как бы это сказать, больше чувствую товарища, чем командира, но уважения от этого не меньше. Даже наоборот. Помню, пришел он в эскадрилью, я начштабом был, подзапустил документацию. Бумажки! Возня с ними. Он мне один раз напомнил, я — мимо ушей. Схлопотал за меня выговор. Пришел, улыбнулся, а вы знаете, как он улыбается, и только сказал: «Вот как, Женя, получается». Я чуть со стыда не сгорел.
Фильм, как по заказу, был о летчиках. Он весь состоял из грома чертивших небо истребителей, создававшего трагический подтекст, на который ложились скупые, не лишенные скепсиса интеллектуальные реплики; ими обменивались в перерывах друзья, дымившие сигаретами на треножниках аэродромного холла.
Тут были и колеблющаяся любовь, и мужское благородство, не желавшее навязывать лихую свою судьбу далеким от их жизни девочкам; и женщины, стойко переносившие потерю.
Фильм оглушал. Мы вышли на аллею, прохладно шумевшую листвой тополей.
Где-то в небе гудели самолеты, точно фильм все еще продолжался.
— Ну как? — спросил я Рубена.
— Это все в прошлом. Сейчас и техника другая, и знания.
— А жизнь?
Он пожал плечами:
— Обыкновенная. Готовимся, летаем. Служба наша такая.
И тут Галя, черноокая жена Рубена, вся какая-то притихшая, растроганная фильмом, встрепенулась, бросив на мужа смятенный взгляд.
* * *
…Утром в четверг, едва солнце обожгло кромку леса, летчики уже работали с картами. В полдень автобус выкатил из расположения полка и не спеша зашуршал по асфальтовой дорожке меж кустов акации, затем свернул к аэродрому, и за окном открылось поле с серебрящимися на площадках самолетами, аэродромными зданиями, палатками для техников.
В автобусе было шумно, летчики оживленно переговаривались, по всему было видно, что полеты для них — праздник. Когда садились в автобус, один из самых младших в эскадрилье, лейтенант Степаненко с грустным видом сказал:
— А я опять дежурю.
— Дорогой, кому-то же надо дежурить. Вот чудак…
Вспомнился мне «контроль», последнее занятие накануне полетов. Сколько полетов, столько контролей. Говорят, музыканты не могут и дня прожить без упражнений — теряются навыки. Что ж говорить о летчиках, о воздушных асах, чья техника отрабатывается ежечасно — и на земле и в небе.
«Контроль» проводил командир полка Хиль в новом, с иголочки, аккуратном кителе, его широко расставленные глаза, казалось, глядели на всех одновременно. Он экзаменовал летчиков, четко задавал вопросы.
— Очень вас прошу — максимум внимания. Сами понимаете, мелочей в нашем деле не бывает. Досадная промашка ведет к происшествию. Тот, кто знает свои недостатки, сможет вовремя их исправить. Все-таки не по земле ходим.
Хиль умолк, и только тогда я понял, что он волнуется. За них, за своих питомцев. Ведь от этой последней тренировки во многом зависел исход смотра. Думаю, что и в обычные дни он беспокоился не меньше. Каждый вылет — испытание, шлифовка тончайших граней летного мастерства.
— На взлете резкое отставание от ведущего. Капитан Задвинский, ваши действия?.. Так, при петле в высшей точке попали в облака, потеряли ведущего? Лейтенант Бокач?
Вопросы следовали один за другим, все усложняясь, и летчики так же быстро ориентировались, разом охватывая обстановку. В воздухе все решают мгновенья.
Чувствовалось, командир полка доволен. Уже в самом конце сказал:
— Перед вылетом. Загодя. В раздевалке. На старте — еще раз продумайте задание. Каждый. Старайтесь мысленно представить полет, все предусмотреть. Это должно быть железным правилом. — И, не закончив: — Товарищи офицеры!
Шум отодвигаемых стульев, все встали, приветствуя стремительно вошедшего старшего начальника, и он, словно испытывая легкую неловкость от этого строевого правила, отнимавшего время, лишь слегка шевельнул рукой: садитесь. Молча с минуту вглядывался во всех, точно стараясь заглянуть в послезавтрашний день, когда они вылетят в небо, чтобы защищать честь полка, сказал негромко:
— Смотр — это экзамен. Надеюсь на вас…
А мне припомнилась комната боевой славы, вихрастые мальчишки со звездами героев; фильм, который мы смотрели потом, тот самый, что устарел. И вдруг подумалось: да, меняется техника. А традиции остаются. Остаются люди, чье мужество выверяется реактивными скоростями, мгновенной реакцией.
Сейчас в автобусе, даже за рассеянными смешками, шутками, которыми они перекидывались, чувствовалась та особая углубленность, которая предшествует генеральной репетиции. Все, чем они жили, помимо своей работы — семьи, хлопоты, увлечения, будничная суета, — все оставалось за гранью проходной, будто в ином, далеком мире, о котором думать теперь было ни к чему.
Мы с Аведиковым сидели у заднего окна. Слева от меня примостился светлобровый паренек в куртке, в котором я не сразу узнал капитана Задвинского, первым отвечавшего на «контроле». Они с Евгением переглянулись, и Задвинский, наклонясь ко мне, с трудом пряча смущение, попросил:
— Будете писать про Восканяна, не забудьте отметить чуткость. Нет, нет, вы запишите в блокнот — чуткость. И, неловко сутулясь, пожал руку: — Геннадий. Можете запросто — Геной… Вот вы понимаете, — понизил он голос, видимо стесняясь, что его услышат рядом сидящие. — Это очень важно… Тут однажды к одному товарищу жена приехала, с ребеночком, грудным. А дело зимой. Сидит на вокзале. Как уж сумела через штаб до нас дозвониться…
— Ваша жена?
Лицо его полыхнуло.
— Что вы, я еще холостой. Да это неважно. Ну вот, а у нас занятия были, и машины свободной нет. Так он, Рубен, достал у кого-то из друзей «Москвич» и привез женщину. — Тонкое лицо Гены, теперь уж вовсе пожарного цвета, выразило смятение: — Может, я не то говорю? Мелковатый случай? Но… нам он не показался таким. Ведь к нему даже не обращались, к Рубену. Он стороной узнал.
— Мне тоже не показался, — сказал я, чувствуя странное волнение. — Честное слово, Гена.
Он отвалился на спинку, явно довольный.
За эти два дня, как ни странно, мы успели подружиться с Рубеном, хотя едва ли обмолвились двумя десятками слов. Он был мне очень симпатичен именно этой немногословностью, естественной, словно врожденной, удивительно мягкой манерой обращаться с людьми, не повышая голоса, сглаживая твердую требовательность неиссякающей своей улыбкой; такой же мягкой снисходительностью в отношениях с женой, которая как будто командовала дома, а на самом деле радовалась малейшему поощрению с его стороны, — сдержанностью, за которой чувствовалась подлинно мужская, отзывчивая натура.
Накануне вечером, когда надо было наконец лечь отдохнуть, мы вдруг услышали донесшийся со двора плач. Я вышел вслед за Рубеном и увидел двух малышей — сына его Сережу и соседского мальчика над поверженным велосипедом.
— Это Венька сломал, — сказал Сережа. — Я дал поездить, а он упал.
— Нехорошо, — сказал Рубен, — он ведь нечаянно, а ты ябедничаешь.
И, заметив, как надулись Сережкины губы, погладил обоих ребят по голове, черной и белобрысой.
— Венька, сын майора Блинова, очень хороший мальчик, — сказал, обернувшись ко мне, Рубен. И, улыбаясь,