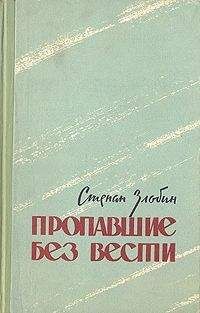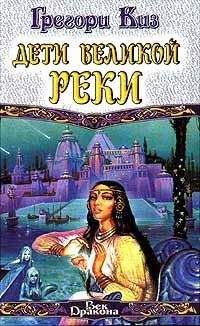— …Охрана территории самого лагеря и охрана порядка в лагере доверяется вооруженному отряду бывших военнопленных, — продолжал капитан. — Командиры взводов, ко мне! — властно позвал он.
В толпе, окружавшей роту, Балашов увидал Батыгина, Маслова, Женю Славинского, Волжака…
— Смир-рно-о! — раздалась команда.
Капитан еще что-то громко сказал, но Иван не слыхал его слов: он в это время заметил на носилках, с которыми шли санитары, безжизненное лицо Павлика. Он видел, как Женя Славинский рванулся к Самохину из толпы.
— Балашов, ко мне! — приказал командир взвода.
Иван шагнул из рядов, подбежал к командиру. Лейтенант взглянул на часы:
— На два часа, до восьми ноль-ноль, можете быть свободны. Идите побудьте с друзьями.
— Слушаюсь, два часа, до восьми ноль-ноль, быть свободным, — повторил Балашов и услыхал, как в толпе бывших пленников кто-то ахнул и как прошел говор.
«Узнали меня!» — подумал Иван, но он продолжал стоять «смирно», глядя в лицо командира.
— Вольно, — сказал командир. Он тепло и по-дружески улыбнулся. — Рад, Балашов? — спросил он.
— Еще бы, товарищ лейтенант! Знаете, как… у меня ведь невеста тут… — Иван захлебнулся словом, зажмурился и крутнул головой, не сдержав слезы радостного волнения.
— Ну, идите, идите! — Командир еще раз взглянул на часы.
— Взвод, напра-ву! — услышал Иван его голос уже у себя за спиной.
Он шагнул к толпе пленных.
— Товарищ фельдшер!
— Иван!..
— Здорово, Ванюша! — радостно закричали вокруг.
— Да это же старшой из карантина! А объявили — повешен!
— Балашо-ов! Вот так штука!
— Ива-ан!
Его тесно сжимали со всех сторон, целовали.
Тут были близкие и друзья, а среди них и едва знакомые люди, однако не было между ними различия в радости, в теплоте, в счастье прижаться в объятии. Рыжий Антон, Славинский, «Базиль», Соленый, Василий-матрос окружили его.
И вдруг, едва видная за плечами мужчин, с силой протискавшись между ними, вырвалась из толпы и кинулась Балашову на шею маленькая Наташа.
— Карантиныч! Неужто ты?! В форме, в погонах… Какой ты красивый! Голубчик!.. Значит, они тебя не повесили…
Она целовала его в щеки, в глаза, в губы, едва доставая, повиснув на шее.
— Наташа! А где же Машута? — спросил Иван. — Маша где?
Она испуганно разняла свои тоненькие, детские руки и широко, во внезапном страхе, в растерянности, открыла глаза, глядя на него снизу вверх.
— Машута?! А ты… разве ты не знаешь? — жалобно пролепетала она.
— Да она же в тот день, как его увезли в гестапо… — сказал рядом женский голос.
Иван взглянул на лицо говорившей женщины, и вдруг оно поплыло, задрожало, как будто в воде. Он не узнал ее, да и зачем узнавать! Он все понял…
— Умерла? — произнес Балашов и не услышал сам своего голоса за каким-то туманом, который затмил глаза и набился в уши.
Емельян опускался куда-то в сладкую темноту, из которой до него доносились отрывистые слова:
— Пинцет, говорю! Зонд! Свети ближе!.. Тампоны! Еще тампоны! Бойчук, следи за раствором!
Голос врача доходил до Баграмова будто откуда-то издалека, и все уже утонуло, ушло, растворилось. Но вот барак содрогнулся от взрыва, со звоном посыпались где-то рядом стекла.
— А ты бы под стол залез! — явственно услыхал вдруг Баграмов злые слова Куценко. — Раненого держи! Клава, эфир! Да свету же больше, черт вас… военные люди! — строго сказал Куценко. — За пульсом следи…
Опять грохнул взрыв, но только теперь уже как-то глухо, словно прикрытый ватным одеялом.
— Зачем я вскочил? — вслух механически повторил Баграмов, не понимая уже значения этих слов.
— Раненых принесли! — крикнул кто-то над ухом Баграмова.
И потом наступил надолго темно-красный покой и ватная тишина. Потом тишина стала синей и светлой. И вдруг она разорвалась криками радости. Кричали «ура». Смеялись. Кто-то возбужденно и громко крикнул что-то непонятное…
Сон разорвался, но не было сил ничего осмыслить, — как будто в детстве на ярмарке, все вертелось, пестрело, кричало не в лад.
— Откройте же затемнение, утро! — отчетливо потребовал чей-то голос рядом, отдельный, осмысленный голос.
— Тампон! — приказывал Опанас Куценко, как раньше отрывисто. — Зонд… Другой, не этот…
Но Куценко говорил далеко в стороне от Баграмова. Емельян догадался, что его уже вынесли из операционной в соседнее помещение и голос Куценко слышится за переборкой.
— Повернись, повернись немного, голубчик, — уговаривал женский голос с другой стороны.
— Перевяжи поскорее, сестрица, пойду к своим! Господи, хоть поглядеть! — просил кто-то.
— Да куда же ты можешь идти? Лежать тебе надо. Придут и сюда, — уверял Глебов.
— Что ты, товарищ доктор! Я ничего, дойду! Разве дождешься! — спорил с ним раненый.
— Иван! — вдруг воскликнул Глебов. — Откуда, родной?!
— Емельян Иваныч где? Что с ним? — услышал Баграмов громкий тревожный вопрос.
Он не мог вспомнить, чей это голос, и не было силы открыть глаза.
— Тише! — шепнули над головой Емельяна. Баграмов с усилием поднял веки и высоко над собой, почему-то особенно высоко, увидал лицо Балашова в пилотке с красноармейской звездой, в гимнастерке с погонами.
— Ваня, — растерянно произнес Баграмов.
Он вдруг совершенно ясно и сознательно вспомнил, что Балашова вообще не может быть в лагере, что он увезен в гестапо, приказом немцев объявлено, что Иван повешен вместе с Кумовым, Кречетовым и Башкатовым. Значит, его лицо — просто бред!.. Баграмов зажмурился… Но когда он открыл глаза, Балашов низко склонился над ним и по щекам его текли слезы.
— Чего ты, Ваня? — слабо спросил Баграмов.
— Возьми себя в руки! — змеиным шепотом зашипела над ухом Балашова сестра Клавдюша.
Баграмов услышал ее и понял, что слезы Ивана относятся непосредственно к нему, Емельяну.
«Неужто так плохо мне?» — подумал Баграмов, но как-то совсем без тревоги, без страха.
— Ну как дела, Иван? — спросил он, стараясь произнести эти слова обыкновенным голосом, собрав все спокойствие, но сам услыхал, что спокойствие не получилось, голос — еще того меньше, а самый вопрос нелеп.
— Лагерь освобожден, Емельян Иваныч! Красная Армия в лагере, — подчеркнуто бодро и весело сказал Балашов.
— Вижу, — улыбнулся Баграмов. — Ведь ты сам… Красная Армия… Ваня… — Он закрыл глаза. — Хорошо, Иван, — шепнул он.
— Емельян, ты молчи, дорогой, — сказал Куценко, который приблизился в белом халате. — Четыре раны… куда к чертям! Такая потеря крови, сам понимаешь… молчи! Я тебя умоляю! — Куценко взял его руку. Дружеские и уверенные пальцы врача на пульсе были приятны Баграмову.
— А ты, Опанас, за меня не бойся, не бойся. Теперь умирать нельзя. Надо жить, — бодрясь, сказал Емельян.
«Зачем я вскочил, черт возьми? Всегда не хватало мне выдержки!» — подумал он и устало закрыл глаза.
— Клава! Камфару! — услыхал он, как будто сквозь сон…
Красная Армия докатилась до Эльбы. Весь фронт за ночь и утро продвинулся, подтянулись соседи полка, которым командовал Бурнин. С левого берега с гулом и свистом шли еще разных калибров снаряды и мины, кое-где на открытых местах доставали бойцов и пулеметы. Гитлеровцы не смущались скоплением немецких беженцев, среди которых успело появиться немало раненых и убитых фашистским огнем. Лагерь ТБЦ оказался уже к утру в расположении вторых эшелонов, хотя в десяти километрах к югу и по правому берегу Эльбы тоже не кончился бой: сопротивлялись немецкие части, отрезанные на юге, со стороны Дрездена, выскакивали из лощинок какие-то отряды не успевших сбежать эсэсовцев, таились в кустах и кюветах микроскопические засады озлобленных фаустников. В расположении части Бурнина остались лишь мелкие «недобитки», как их называли красноармейцы.
Бурнин выбрал полчаса, чтобы съездить в спасенный от гибели лагерь.
— Едем вместе, — предложил замполит Сапрыкин. — Не люблю я бывать в этих лагерях, а ведь все-таки надо же посмотреть, кого-то мы там наспасали!
— Ну что же, поедем, — сухо согласился Бурнин, которого неприятно задело небрежное словцо «наспасали».
Несколько раз битая, с лысой резиной машина Сапрыкина доставляла много хлопот шоферу-ефрейтору, и в это утро он наконец «подхватил» для замполита у переправы какую-то открытую, иностранной марки, длинную, как сигара, машину.
— Для войны она вряд ли, товарищ полковник, а для победы — как раз! Я считаю, гоночный тип. По нашим дорогам она низковата, конечно, а для Европы — вполне, — пояснил шофер.
— Уважаете Запад, товарищ ефрейтор? — спросил Бурнин.
— Машины у них, товарищ полковник, действительно, точно! — ответил тот.
— Ну, точно — так точно. Едем, испробуем.