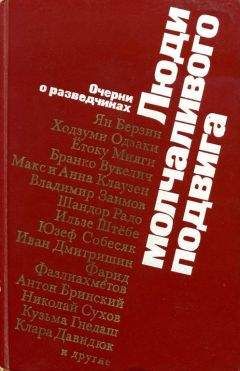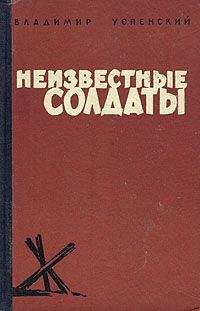— Нет. Ложись спать, мальчик.
— Ишь ты. Словами ты умеешь драться. А толку-то, если жизнь в рожу бьет? Зачем сбежал тогда? Ребята уважали тебя, а ты… И заступаться не хотелось после этого.
— Ты думаешь, кулаком и словом движет одна и та же сила?
— Уверен. Если тебя ударили по щеке, ты должен возвратить унижение.
— Но ведь унизили-то мой зад, — засмеялся Родион. — За что тебя выгнали из института? Уж не за возвращенную ли пощечину? Ладно, не отвечай. Достань сала.
Они заснули под утро. Во сне Родион глухо стонал: какой-то носатый пинал его ногами по лицу, но было совсем не больно, а только мучительно стыдно.
На десятые сутки, поздней ночью, состав в последний раз лязгнул буферами и в судорожных рывках затих. Комкая в пальцах список, лейтенант незнакомым голосом выкрикивал фамилии тех, кто остается в Чите. Родион пластом лежал на полке и тоскливо ждал своей очереди. Утром он почувствовал удушливый жар и вяжущую боль в груди. Вряд ли он дойдет сейчас до тамбура.
— Цветков! На выход!
Что делать? Поверят ли ребята в то, что он болен? Или подумают: сачкует. А впрочем, плевать ему на этих юных оболтусов.
— Где Цветков? — всполошился лейтенант.
— Здесь, — еле выдавил из себя Родион.
— Почему так долго чухаешься? Марш на выход!
Стиснув зубы, Родион слез с полки и настороженным недоверчивым взглядом окинул ребят. Они пугливо съежились, пораженные его бледностью. Юрка Сомов схватил Родиона за локоть.
— Что с тобой? Заболел?
— Это не имеет значения. Подай-ка мою сумку и прощай.
— Я был бы счастлив встретиться с тобой еще раз на этом свете, — тихо произнес Юрка.
— Можно. Я стану великим, и ты прочитаешь обо мне в газете.
Родион вдруг сморщился, так как едва не обронил слово «рецензия», и, вконец подавленный, шатаясь побрел к выходу. Горло тотчас забило ветром, но холод был приятен, как повязка со льдом. Кругом стоял крик, будто на галочьем базаре. Когда построились, лейтенант еще раз проверил всех по списку, и отряд новобранцев затопал по холму. Родион сдавленно мычал, растирая потной ладонью грудь под рубахой. Двое парней внимательно поглядели на него и взяли под руки — он подчинился. Возле белого бревенчатого дома, по окна заваленного разноперым тряпьем: ватниками, ушанками, сапогами, — лейтенант снова прокричал список и запустил в баню первую партию. К Родиону поднырнул тощий солдатик в небрежно распахнутой гимнастерке и бесцеремонно пощупал свитер.
— Подаришь? И шапчонку тоже. У меня завтра дембель.
В предбаннике Родион швырнул ему в радостном озлоблении все свое барахло, восхищенный тем, что у него теперь ничего нет, кроме души и тела. Он яростно скреб себя мочалкой, блаженно захлебывался водой и все время не переставал удивляться чему-то. Какое ему дело до грядущих напастей, ежели пальцы его осязают свою плоть. А болезнь только обостряет ощущение этого счастья, то есть присутствия в нем мысли и жизни.
Облаченный в казенное белье, отдающее неуютной сыростью, Родион вышел в холодный коридор и остолбенел: с этими ребятами в новеньких длиннополых шинелях и в шапках с горящими звездочками он, кажется, ехал в одном вагоне.
4
Первые дни в учебном подразделении принесли Родиону такое чувство, будто он нечаянно заплыл в море, а когда опомнился — уже не хватало сил добраться до берега. Нужно было выкинуть всякую чушь из головы, собраться и расчетливо сохранять себя, видеть только силуэты человечков на далеком берегу.
Растерянность усугублялась еще и болью в груди — боль немного рассосалась, но по-прежнему не давала жить так, как жили остальные новобранцы: в столовую Родион всегда плелся позади строя, злобясь на свою беспомощность. Наконец старшина роты не выдержал и сам повел его в санчасть.
— А ну посмотри, Мария, что там у этого гордеца? — сказал он рыжей медичке с маленьким пятнышком йода на халате.
В казарме старшина приказал: «Цветков, марш в постель! Подъем только в столовую. Увижу одетым — влеплю наряд». Родион нырнул в застиранные простыни, вжался в подушку и расслабленно закрыл веки. Неужели можно хоть на час забыться? Его засасывала вязкая дремота. Но вдруг он спохватился на том, что мучительно заставляет себя спать и не может заснуть. Он через силу открыл глаза и вздрогнул: на него пристально смотрел Колька Фомин, маленький тощий солдат, с которым он ехал в одном купе. Родиону показалось, что Колька смотрит на него с презрением, и он машинально закрылся с головой, закусив от злости подушку. Сон освинцовывал тело, а этот взгляд на остром крючке вытягивал его из омута, как плотвичку.
Колькины глаза словно припаялись к его кровати.
Тогда Родион рывком сорвал с себя одеяло и крикнул:
— Презираешь? Думаешь, сачкую? Какое твое дело сопливое? А ну, раздевайся и ложись на мое место. Боишься? Ну тогда сиди и не корчь из себя героя.
Фомин покраснел от неожиданности и привстал с табуретки. Родион снова закутался в одеяло и слепил веки, не в силах унять дрожь. На душе было скверно, проклевывалась жалость к этому мальцу. В то же время корежил вопрос: смог бы он так выплеснуть злобу, если бы вместо этого заморыша Фомина глядел на него тот, носатый?
Дежурный по роте разбудил Родиона перед вечерней поверкой: «Кончай дрыхнуть. Ужин-то проворонил. Так закутался — не найдешь. Ребята тебе порцайку принесли. В тумбочке». Родион оделся и жадно набросился на хлеб.
Краешком глаза он заметил, что за ним следит Фомин, только уже боязливо, исподтишка. И ему стало неловко.
Старшина построил роту и объяснил задачу: все койки, тумбочки и табуретки в два захода перетащить в казарму химиков. Родион поспешил к табуреткам, пока их не расхватали. Ходить пустым было неприятно. Почему-то сразу вспыхнула неприязнь к тем, кто последовал его примеру.
— Отставить табуретки! — рассердился старшина. — С первых дней хитрить вздумали? Только Цветкову разрешаю: он болен. Остальным разобрать койки.
На улице гудело как в печной трубе, быстро твердели пальцы, и каждый шаг отдавался в сердце. Возле штаба Родион заметил нахохлившуюся фигурку Фомина. Колька то и дело бросал койку на снег, и напарник его чертыхался. Родион понял, что самое страшное сейчас — пройти мимо Фомина. Словно почувствовав чьи-то глаза на своем затылке, Колька обернулся и весь сжался, торопливо схватил кровать и виновато заскрипел сапогами по снегу. Вдруг запнулся и ударился о железную спинку. Не глядя в лицо Фомину, Родион молча взялся правой рукой за койку.
В новой казарме кровати их очутились рядом. После того как старшина несколько раз сделал «отбой» и «подъем», Колька, потный и бледный, зарылся в подушку и тихонько заскулил. Но странное дело: его всхлипы успокаивали Родиона, словно убеждали в каком-то превосходстве, возвращая гордости забытые утешения. Он как бы со стороны увидел свое временное отчаяние. Перебирая в памяти прошедший день, он понял, что не физический страх угнетал его, а именно боязнь унижения. И эта боязнь родилась в тот самый миг, когда носатый толкнул его в грудь с глупой и равнодушной злостью. А теперь он мог заразить ею и Фомина, — так и тянулась бы эта проклятая цепь.
5
В учебном подразделении Родион пробыл шесть дней. Однажды человек шестьдесят из молодого пополнения построили возле штаба, вернули им документы и повели на станцию. По дороге встречались женщины с буханками хлеба под мышками, крикливые стайки девчат — и было странно видеть их не в кирзовых сапогах и шинелях, а в одеждах и заботах другой и неведомой жизни. Они шутили над всеми солдатами одинаково и всем одинаково желали счастья, никого не выделяя и каждого считая сильным и честным. Одна девчонка, наткнувшись на пристальные глаза Родиона, смутилась и быстро крикнула: «Здравствуй, солдатик! Как звать-то тебя?» Родион вздрогнул, но промолчал. «Как звать меня? — усмехнулся он втайне. — Я и сам не знаю, милая девушка. Да и зачем тебе пустой звук. Прощай, человечек в пуховом платке». Родион вдруг обернулся, и девчонка, словно загадавшая, что странный солдатик еще раз посмотрит на нее, радостно приподнялась на цыпочки и замахала ему красной варежкой. Как внезапно всходит солнце над этим миром!
В вагоне кто-то потянул Родиона за рукав.
— Эй, парень, давай к нашему шалашу.
Это были ребята одного возраста с ним. Их тоже называли годичниками, как и всех, у кого было высшее образование. Друг друга они узнавали быстро. Родиону было неловко чувствовать, что они питают к нему что-то вроде нежности. Знакомая небрежность в оценках, многозначительные остроты, заменяющие точку зрения, и все то неуловимое, что присуще студентам, взволновало на миг Родиона. Парни так спешили высказаться, что бесшабашно перескакивали от египетских саркофагов к президенту Рейгану. Через минут двадцать Родион понял, что пошли бесконечные вариации одной и той же темы, и полез на верхнюю полку. Ему опротивели слова.