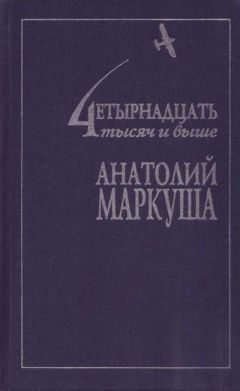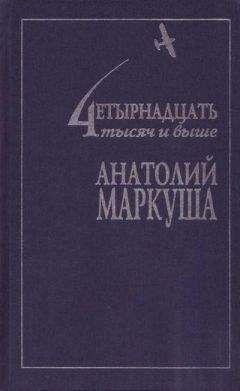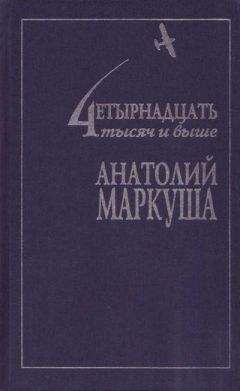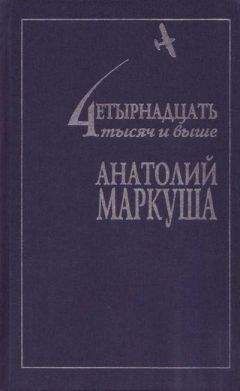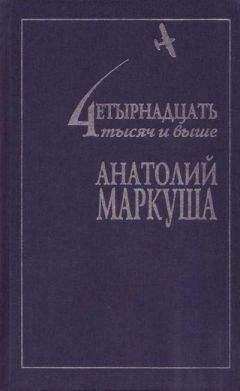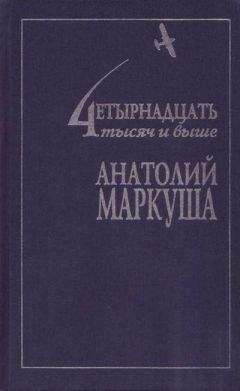Слушай голоса неба и привыкай узнавать в них добрый привет антициклона, приближение наступающей грозы, откровенную ненависть свирепствующего шторма.
Теперь, когда телеграмма от Севса пришла и все точки над «i» расставлены, надо было действовать. Хабаров любил это состояние, приходящее к нему всякий раз перед атакой, решительным шагом, направленным действием. Виктор Михайлович позвонил в аэропорт, связался с диспетчером.
— Здравствуйте, говорит Хабаров. Когда планируете Канаки?
— Заявка на восемь пятнадцать, но, кажется, они перенесут вылет, что-то еще делают на машине… Хабаров мельком взглянул на часы.
— Передайте Канаки, пусть без меня не вылетает, я сейчас еду. Понятно?
Давать подобные, указания Виктор Михайлович не имел никакого права, но нисколько не сомневался, что слова его будут переданы и распоряжение исполнено.
— Понятно! — сказал диспетчер. — Сейчас доложу. Хабаров собрался, как по боевой тревоге, и уже через сорок минут был в аэропорту.
— Что случилось? — спросил Канаки, прежде чем поздороваться с Хабаровым.
— Вчера ты говорил, что будешь садиться по соседству с нами, хочу улететь с тобой. Возьмешь зайцем?
— А что случилось?
— Вот прочти. — И он протянул Хоботу полученную час назад телеграмму.
— Ну мастер! Умеешь давить, умеешь… Ладно, пошли на машину.
Первая треть маршрута тянулась над морем, шли на малой высоте. Канаки работал: включал радиовысотомеры, записывал их показания, сличал с показаниями эталонных приборов. Повторял режим и снова фиксировал показания стрелок. Впереди в плотной дымке показался берег. Над дымкой виднелась неровная черта изрезанного далекими еще горами горизонта. Канаки перешел в набор высоты, включил автопилот и сказал второму:
— Посмотри, Дима, что там Хабаров делает. Дима вернулся очень скоро.
— Треплется с Лилькой, командир. И, кажется, с большим успехом.
— Однако, — сказал Канаки, — этот своего не упустит! Посмотри тут… — И он вылез из своего кресла. Канаки прошел в салон и первым делом распорядился: — Давай к штурману, Лиля. Возьми бланки и перенеси точки. — И как только прибористка поднялась с малинового плюшевого кресла, плюхнулся на ее место.
— Ну? — спросил Канаки, пристально разглядывая Виктора Михайловича.
— Сорок восемь, — ответил летчик.
— Что сорок восемь?
— А что ну? — И сразу же переключил разговор: — Сколько ты уже ковыряешься с этими высотомерами?
— Месяца полтора. В принципе хорошая штука, но тарировка замучила.
— Тут барышня твоя очень лихо рассказывала, как вас на Севере прижало…
— Вот трепло… Не держится…
— Не ругай девочку. Это я виноват. Втерся в доверие.
— Это верно — втираться ты умеешь. А вообще нас тогда, и правда, прилично прихватило. Представляешь: выхожу на базовый аэродром, с подхода запрашиваю погоду, а они говорят, что не принимают никого и ни на чем. Спрашиваю, кто принимает? Отвечают в том, значит, смысле, что приблизительно до Полтавы никто не принимает. Туманы, низкая облачность, обледенение… Горючего у меня на два сорок, а до ближайшей приличной погоды лететь часов шесть. И началась торговля! Каждый норовит спихнуть меня на соседа. А время — тик-тик… Запрашиваю главный диспетчерский пункт и сразу бросаю им кость: прошу дать обстановку по Скандинавии… У меня же аварийная ситуация наклевывается. Но сам от базового никуда, хожу виражами и надеюсь — а вдруг разорвет, вдруг проклюнется полоска в тумане. Минут через двадцать получаю официальную инструкцию: ждать два часа в воздухе, если обстановка не улучшится, высыпать экипаж с парашютами (мы нате полеты брали парашюты), а дальнейшее решение принимать по собственному разумению. Все бы ничего, только на борту у меня пять баб: инженерши, техники из всяких там научно-исследовательских заведений. Бабы на каблучках и парашют видели только в кино…
Канаки делает паузу, неторопливо достает и раскуривает сигарету.
— Ну и…
— Сорок восемь, — говорит Канаки.
— Вот черт, уел! — смеется Виктор Михайлович. — И все-таки что же дальше было?
— Повезло. Ходил-ходил — выходил! Вроде розовые пятнышки на облаках появились. Думаю — разрывает туман. Ограждение просматривается. Хватанул аварийное снижение и быстренько присел. Присел, а куда рулить, не знаю. Снова прикрыло. К нам от диспетчерской «газик» послали для сопровождения, так шофер заблудился. Часа полтора сидели в машине… В салон входит радист. Подает Канаки радиограмму. Тот быстро пробегает глазами текст и говорит:
— Хорошо. Передай: будем вовремя. Я сейчас иду.
— Ну и какой вывод? — спрашивает Хабаров.
— Научный или вообще?
— Вообще.
— Дуракам везет, — говорит Канаки и поднимается с малинового кресла. — Пошли?
Канаки занимает место командира корабля, молча взглядывает на второго, и тот сразу же поднимается, уступая правое кресло Виктору Михайловичу.
— Старикам всегда у нас почет? — спрашивает Виктор Михайлович.
— Дима, только не говори ему, что молодым везде у нас дорога. Пусть не набивается на комплименты.
Виктор Михайлович поглаживает холодный штурвал.
— У тебя такой вид, — говорит Канаки, — будто тебе до смерти охота выключить автопилот.
— Если не возражаешь, я бы его действительно выключил.
— Поработай, коли хочешь. Поработай.
И Хабаров принимает управление кораблем на себя. Несколько четких движений рулями, и стрелочки на приборной доске замирают, будто приклеиваются к циферблатам, не дышат. Отклонение по высоте — ноль, отклонение по скорости — ноль. Отклонение по курсу — меньше толщины штриха на картушке компаса. Хабаров гонит площадку. Вид при этом у него довольно безмятежный, только губы поджались. Чтобы так вести машину в возмущенных потоках воздуха — а время близится к полудню, и болтает весьма ощутительно, — надо не просто хорошо летать, надо летать талантливо, летать виртуозно…
Проходит полчаса, сорок минут. Стрелочки по-прежнему не дышат. Хабаров облизывает губы. Жарко.
Канаки говорит:
— Слушай, если Севе тебя выгонит, приходи к нам. Вторым я тебя, пожалуй, возьму, ты старательный парень…
— Вторым невыгодно, — говорит Хабаров, не отрывая взгляда от приборов и не поворачивая головы.
— Почему? Вторым к такому командиру, как я, любой за честь почтет, правда, Димка?
— Зарплата маловата, — говорит Хабаров, — и потом ты ревнивец.
— Кто-кто я?
— Ревнивец. Лилечку к штурману прогнал. И это когда я гость на борту, а что будет, если я окажусь твоим подчиненным?
— Ишь ты! Лилечка ему понадобилась…
Они продолжают препираться. А стрелочки не дышат. И отклонение по скорости — ноль, и по высоте — ноль, и по курсу — меньше, чем толщина штриха на компасной картушке…
В расчетный час самолет Канаки выходит на дальний привод, снижается и неслышно катит по бетону.
Летчики прощаются.
— Спасибо, Сережа, выручил… — говорит Хабаров. — Я надеюсь, Дима, что вы на меня не в обиде? Ах, вы чудно выспались? Тогда тем более… Всего хорошего (это штурману)… До свидания. Движки у вас просто звери, как говаривал, бывало, Алексей Иванович Углов, чистые звери! (Это бортинженеру.) Всего хорошего, желаю вам на ближайшие десять лет дистиллированного эфира (это радисту), — и, задержав ее руку в своей руке: — Будьте здоровы, Лилечка, если этот коварный мужчина (взгляд в сторону Канаки) станет вас обижать, немедленно звоните мне. Телефон не потеряйте. Я жду!
И всем:
— Сверкнув чемоданами, он исчез в голубых сумерках, напоминавших об уюте, домашнем очаге и ужине в узком кругу особо доверенных лиц…
— Трепло, — сказал Канаки, — но летает, собака, дай бог, дай бог!
— Силен, — сказал Дима.
— Политик, видать. Бо-о-ольшой политик, — сказал бортинженер.
— Ничего у тебя приятель, командир. Сколько ему лет? — сказал штурман.
Радист промолчал.
— Неприлично красивый мужичина, — сказала Лилечка, — даже не верится, что такие бывают на самом деле.
Дома Хабаров появился уже под вечер. Мать испугалась:
— Что случилось, Витенька? У тебя же еще семнадцать дней…
— Соскучился! Понимаешь, соскучился. И потом, чего там хорошего, на этом юге — море и то соленое.
— Ты все шутишь, а на самом деле что-то скрываешь.
— Ничего я не скрываю. Чего мне скрывать? И вообще расскажи лучше, какие тут новости.
— Ничего особенного без тебя не случилось. Звонил два раза Алексей Алексеевич. Ты ему для чего-то нужен. Кира звонила… Еще заходил старший лейтенант. Фамилию я записала, сейчас погляжу…
— Какой из себя?
— Молодой, симпатичный, очень вежливый… Румяный…
— Блыш?
— Да-да-да, Блыш. Правильно.
— И что?