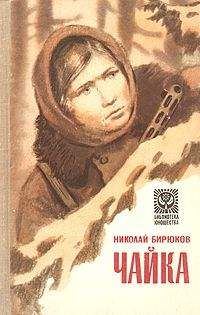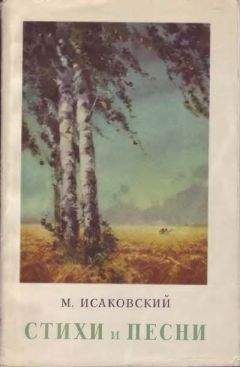Васька опять наклонил голову и всхлипнул, а Шар сердито заворчал на незнакомую женщину, которая сошла с парома и, кутаясь в шаль, молча прошла мимо.
«Может быть, взять? — заколебалась Катя и а решительно отвергла эту мысль: — Нет, нельзя рисковать детьми».
Шапка у Васьки съехала на затылок. Катя поправила ее.
— Ты пока помогай нам отсюда, Васенька. Следи всем, что будут делать немцы. Ты будешь наш уполномоченный, подпольный работник. Подходит?
Васька молчал. Катя поцеловала его в лоб и взбежала на паром. Василиса Прокофьевна, неподвижно стоявшая на холме видела, как старик паромщик потянул веревку и парой отделился от берега.
— Прощай, мамка! — крикнула Катя, тоже обеими руками схватившись за веревку. — Маню и Шурку поцелуй за меня!
Василиса Прокофьевна хотела крикнуть: «Прощай!» — но голос пропал.
Шумели прибрежные камыши. Волны у берегов казались дегтярными. Они теснились, набегали одна на другую и распадались с шумом, похожим на тяжелые вздохи. Ветер раздвигал камыши, и на волны падали полоски лунного света. От этого вода казалась еще черней. Василиса Прокофьевна не могла припомнить, чтобы за свою более чем полувековую жизнь она когда-нибудь видела родную Волгу такой черной. Все почернело. Все изменило привычные цвета.
За паромом тянулись две мыльные дорожки пены. Все дальше уносило его от берега, а дочь — от матери.
Подавшись вперед, она вытянула руки, точно желая схватиться за бревна, на которых стояла Катя, не дать увеличиваться расстоянию.
Но от леса на всю Волгу легла густая тень, накрыла паром, в не только у берега — повсюду погасли, перестали светиться волны. На луну наплывала туча с разорванными краями, из-под которых разливались по небу багровые подтеки. Вот такая же туча наплывала и на ее, василисину, душу и на всю ее жизнь.
В темноте, едва заметный, качался на черных волнах паром. Василиса Прокофьевна сбежала с холма. Из груди ее хрипло вырвалось:
— Катя-а!
Хотела крикнуть: «Вернись!» — но в мыслях мелькнуло: «Куда? В дом? Нет у нее больше своего дома — его займут немцы». Не стало в родном краю места, где она без страха за жизнь дочери могла бы обняться с ней. Некуда вернуться Кате…
Тело сразу ощутилось старым-старым. Ноги задрожали, и она опустилась на сырую землю.
Шарик с лаем прыгал Ваське на грудь, два раза лизнул в лицо. Но мальчик, машинально отстраняя от себя морду лохматого друга, не отрывал глаз от темноты, поглотившей паром, и в груди у него горячо переливалась обида. Все было продумано и рассчитано. Везде, куда врываются немцы, коммунисты и комсомольцы уходят в партизаны. Паром возле леса — самое удобное место, чтобы встретить партизан. «А вдруг никого не встречу?» Эта тревога волновала душу, но о том, что его могут оттолкнуть, даже и мысли не было. И кто оттолкнул?! Чайка!..
Из состояния глубокой обиды его вывел шум близкой стрельбы и криков. Он оглянулся на деревню и бросился к Василисе Прокофьевне. Сначала ему показалось, что Волгина плачет, а она сидела беззвучная, словно неживая.
— Тетка Василиса!
Не отозвалась.
Васька принялся трясти ее за плечи.
— Немцы в нашей деревне! Слышишь, тетка Василиса? Немцы у нас!
От резкого движения из кармана передника Василисы Прокофьевны выпал спичечный коробок. Она рассеянно подняла его, и вдруг губы ее сурово сжались: мысль, блуждавшая у нее в течение всего вечера, сейчас окончательно прояснилась и утвердилась как бесповоротное решение. Хозяевами лесов будут Катя и ее товарищи. А немцы? Надо, чтобы немцы нигде не сделались хозяевами, нигде не должно быть стен, за которыми они смогли бы укрыться от партизанской пули. Ее дом не будет вражьей крепостью, из которой эта неметчина сможет убить ее дочь. Нет, не будет!
Зажав в руке спички, она встала. По телу пробегала дрожь, но силы еще были и сердце горело. Василиса Прокофьевна посмотрела на Волгу, на лес и быстро, по-мужски зашагала навстречу крикам, лютой ненавистью зажигавшим кровь.
На берегу, по соседству с черным лесом и такой же черной рекой, сиротливо прижались друг к другу две молчаливые фигуры — Васька и Шарик.
От темной улицы веяло нежилой тишиной. Обходя большую лужу, мерцавшую возле колодца, тетя Нюша с ненавистью покосилась на пятна света под окнами школы. Дверь была чуть приоткрыта, и на улицу вырывался густой хохот.
В школе стояли немцы. В двух окнах вместо стекол желтели фанерные листы, в других дыры были заткнуты ватниками и тряпьем.
Тетя Нюша вздрогнула: ей почудилось, будто сквозь пьяный хохот солдат прорывался судорожный женский плач. Вот опять… Багор выскользнул из ее рук, и ведро, прогромыхав по выступам бревен, звучно шлепнулось в черной глубине колодца.
Она, казалось, и не заметила этого. Оставив ведро в колодце, перешла дорогу и прильнула к крайнему, наполовину застекленному окну.
…В железной круглой голландке жарко горели дрова. Отблески пламени ложились на пьяные лица солдат, сидевших на обломках парт и на подоконниках.
Лейтенант Август Зюсмильх без сапог, в одних теплых носках сидел на столе, возле разбитой классной доски, и, целясь из револьвера, кричал:
— Встава-ать!
Солдаты хохотали, хлопали в ладоши…
Уцепившись за наличник, тетя Нюша встала на кирпичный выступ фундамента: на грязном полу, закиданном листками разорванных книг и тетрадей, в одной рубашке лежала старуха — худые ноги ее были оголены, по острым трясущимся плечам разметались седые волосы…
«Кто же это?»
Офицер повернул голову к рыжему солдату, которого на селе все звали «лохматым Карлой»; тот ухмыльнулся, схватил старуху за волосы и поставил на ноги.
— Барин, ради седин моих…
Тетя Нюша испуганно перекрестилась: голос был знакомый.
Солдаты, толпившиеся у стола, перебежали к окну, и она не смогла увидеть лица старухи.
— Грех со старухой такое делать, барин! — с плачем рвался на улицу крик. — Пощади!
— Плясать! — загремел голос офицера. — Айн!
В окне осталась только одна узкая светлая щель, и тетя Нюша прильнула к ней, но ничего не увидела.
— Цвай! — отсчитывал офицер.
Грохнул выстрел, и на миг стало тихо-тихо, потом скрипнула дверь, и в сенях раздалась хриплая песня:
Ich warte dich
In dieser schonen Nacht…
На крыльцо вышел немец в одном нижнем белье, молодой, курносый, с всклокоченными рыжими волосами. Тетя Нюша тихонько попятилась к колодцу. В школе по-прежнему было шумно, а женский голос уже не слышался.
— Отмаялась, — прошептала тетя Нюша. Задрожавшими руками она достала ведро, и когда поднимала на плечо коромысло, оно почему-то показалось ей непомерно тяжелым.
Моросил дождь.
Дома по обе стороны дороги стояли безмолвные и черные, и окна их, как глаза мертвецов, были наглухо закрыты ставнями. Но тетя Нюша знала, что это безмолвие ночи — не сон. Люди с наступлением темноты только притихают, а глаза их открыты и уши насторожены.
У ворот своего дома она столкнулась с Фролом Кузьмичом.
— Мать не видела, тетя Нюша? — спросил он. — Парнишка сказывает, еще засветло ушла по соседям соли разыскать…
«Вот кто!.. Ее голос…» — пронеслось у тети Нюши в мыслях. Отвернувшись, она наклонила голову.
— Нет, Фрол Кузьмич, не видела.
— Ума не приложу, куда девалась старая. — Он задумчиво поскреб тронутую сединой бороду. — А ты слышала?.. Знаешь, почему вчера шум-то был?
— Ну?
— На Ольшанском большаке партизаны им жару задали.
Поставив ведра наземь, тетя Нюша жадно уставилась на него глазами.
Партизаны — это единственное светлое, что осталось в окружающем мраке. На прошлой неделе они перебили немецкий гарнизон в Головлеве, а в Больших Дрогалях повесили старосту, продавшегося немцам. Дня не проходит, чтобы из села не дошел слух: там подорвались грузовики на минах, в другом месте немцев обстреляли… Слушаешь такое, и сердцу вроде легче: «Вот вам, проклятые! Не одни мы, есть кому взыскать с вас, аспидов, за слезы наши и муки».
— Откуда вызнал-то?
Фрол Кузьмич осмотрелся по сторонам и зашептал:
— С приятелем повстречался, с Курагиным Семеном. Он кучером при рике работал. Знаешь? Так вот, — говорит, — боле полсотни немцев положили. И, — говорит, — Катерина Ивановна — Чайка наша — там была.
— На большаке? — взволнованно перебила тетя Нюша. — Ну как она? Поди, похудела?
— Об этом не расспросил.
— К нам бы, родные, пришли… Вот этих бы, что в школе… И для нас праздник бы…
— Придет черед и до этих! Лексей Митрич — это такой человек, все в свой черед справит, не упустит. — Фрол Кузьмич опять поскреб бороду. — Так, стало быть, не встречала мою старуху?