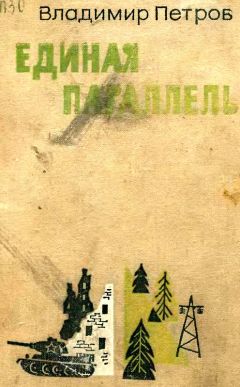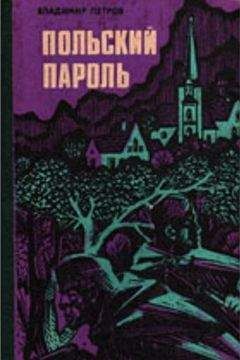Никто из посторонних в карьере не появлялся ни до, ни после отпалки — это единодушно показали на допросах все четверо.
Но кто-то же взорвал экскаватор…
Допустим, один из отпальщиков. Рассчитал время и, когда бежал от подожженного взрывного шпурта в скале, сунул по дороге (мимо бежал!) взрывчатку под основание экскаваторной стрелы. Затем — в укрытие. А в итоге готовое оправдание: в одном из двойных шпуртов вырвало взрыв-патрон — преждевременно сработал пакет в соседнем шпурте — и отбросило случайно к экскаватору — там он и взорвался. Такое объяснение пытались давать оба парня-взрывника, за исключением бригадира Тимофеева. Этот краснел, потел и недоуменно разводил руками: «А хрен его знает…»
Допустим, что такое могло случиться, — чего в жизни не бывает. Но тогда почему бикфордов шнур, найденный около экскаватора, — вот этот самый — отличается от других шнуров, примененных в тот день при отпалке? Он, как выяснилось, совсем из другой серии, не просто желтый, а желтый с черными прожилками (такая серия применялась на строительстве в прошлом году).
Вот здесь и начинался тупик: кому и зачем понадобилось оставлять столь заметный след, ведь проще было воспользоваться типовым шнуром рабочей серии — его полно под рукой.
Между прочим, этот аргумент мог иметь и другое толкование: любой из взрывников, умышленно применив этот нетиповой шнур, рассчитывал на оправдательный эффект: у меня такого шнура не имелось. Ищите другого человека.
А где искать и, собственно, зачем искать, когда все факты налицо? Вот взорванный экскаватор, вот люди, которые при сем присутствовали, — никаких других не было. Все основания для подозрения в преступлении, а отсюда — прямой путь к обвинению. Не признаются? Ничего, подумают, поразмышляют и признаются. Придется дать им время для этого и создать надлежащие условия.
Конечно, неприятный резонанс со всеми вытекающими последствиями. Все-таки стахановская бригада, а бригадир Тимофеев — на Доске почета. Ну что ж, тем хуже для руководителей стройки — притупление бдительности, неумение вовремя распознать замаскировавшегося классового врага, который нынче рядится в любые благообразные личины.
А может, провести дополнительное расследование? Но что это даст? Предположим, он вернется в город, доложит о факте диверсии и распишется в собственной профессиональной беспомощности? Тем более что новое расследование, будь оно в пять раз дотошнее, скрупулезнее, все равно ничего не добавит. А то что враг маскируется, упорно запирается и бешено злобствует — об этом убедительно свидетельствует само время. Взять хотя бы процесс по недавнему шахтинскому делу, да и другие аналогичные события…
«Решительно и безжалостно!» — вслух резко сказал Матюхин, стукнув кулаком по объемистой папке черемшанского дела, которое за эти семь дней перевалило уже за шестьдесят страниц. Положив сверху обрывок бикфордова шнура, устало подумал: «Пора закрывать». Правда, подумал без обычного в таких случаях удовлетворения.
Странно, но все эти дни он так и не почувствовал, как ни старался, желанной слитности с местным жизненным ритмом, не ощутил подлинного вкуса и запаха черемшанского кержацкого хлеба, так и не смог настроиться на душевную открытость с людьми, с которыми пришлось общаться. И в кино ходил, и на стройке был, беседовал с начальством, с рабочими, провел один вечер в общежитии, даже на стрельбище присутствовал, а вот настоящей сердечной расположенности — ни у себя, ни у встречных не достиг. А ведь умел это делать раньше, куда бы ни приезжал, всюду и всегда умел с ходу, по-комиссарски располагать к себе людей.
Какой-то настороженной, будоражной показалась ему Черемша. И жила она непривычной жизнью, непохожей на все виденное раньше. Не село и не город, что-то от того и от другого: нечто среднее между городской самостоятельностью и деревенской степенностью. К тому же крепко заквашенное кержацкой занозистостью, которая эдаким рогатым чертом проглядывается даже в глазах конопатых пацанов: дескать, знай наших.
Если честно признаться, ему за эти дни так и не удалось ни с кем поговорить. Вежливость, доброжелательность, уважительность, ну может быть, согласный ответный смешок, а дальше — ни шагу, хоть лопни, хоть вверх тормашками становись перед ними. «Чок-чок, зубы на крючок!» — такая считалка у местной ребятни, что играет по вечерам под окнами, на базарной площади. С детства учатся сдержанности, стервецы…
Впрочем, это не так уж и плохо.
Хуже, что с руководством стройки он, кажется, не нашел общего языка. Ну, это как сказать. Например, с начальником строительства Шиловым они вполне достигли взаимопонимания. Разумеется, по деловым вопросам. Что касается «общения душ», то тут Шилов явно не внушал расположения. Уж больно шикарный, подчеркнуто респектабельный вид, прямо с рекламного американского проспекта, не хватает только стандартных усиков. «Столичный гусь, играет под „высококвалифицированного специалиста“. А глаза пустые, беспутные, окрашенные поволокой под эдакого „наивняка“».
Ну, а немец — главный инженер — есть немец. Что с него возьмешь? Бесспорно, заражен бациллой нацизма, но маскируется под шумливого «красного социалиста». Гнать его надо отсюда незамедлительно, и в три шеи.
Все они тут завзятые артисты, каждый кого-нибудь, играет или строит из себя черт знает что. Тот же парторг Денисов, не поймешь, какую линию гнет: не то перехлестывает, не то захлестывает влево. А ведь бывший чоновец, проверенный, казалось бы, человек.
Не получилось у них разговора. Встретились, конечно, узнали друг друга, хоть служили в разных эскадронах, да и полгода всего, похлопали по плечу, перешли на «ты». А потом, как сели за стол, сразу будто заело: оба начали вязнуть в пустяках, лавировать, искоса приглядываться. Накурили, надымили в кабинете, а толку никакого — не нашли взаимности, а может, просто не искали. Как это высказывался Денисов? А, ну да: «Социализм — есть человеческая доброта». Оно-то верно. Только прежде надо еще построить этот самый социализм. На одной доброте не то что социализма, шалаша пихтового не построишь.
Казалось бы, элементарно. А вот поди ж ты, не различает человек, где голубая филантропия, а где — железный закон классовой борьбы.
Матюхин поднялся со стула, прихрамывая, походил по комнате. Раздумывал: пойти или не пойти к Денисову? Нет, не ради продолжения какого-либо спора, а для дела — надо же с кем-то из руководства провести заключительную беседу, информировать о своих выводах. Завтра с утра уезжать.
Подошел к столу, вгляделся в сумеречную вечернюю улицу (молодежь гоняла лапту), вспомнил, что Денисова сегодня не было в управлении — болеет. Стоит ли беспокоить больного, да еще в вечерний час?
Постоял у настенного зеркала, поскреб мизинцем столбик рыжеватых усов, неожиданно усмехнулся: из-за частых гитлеровских карикатур в газетах друзья советуют сбрить усы. Дескать, немодные. Дискредитируют. А почему? Вон у маршала Блюхера такие. Не сбривает же. Нет, сбрить усы — значит потерять лицо.
Рядом с зеркалом телефонный аппарат, изрядно облупленный. Матюхин покрутил ручку и попросил телефонистку соединить его с квартирой парторга Денисова.
— Михаил Иванович? Матюхин говорит. Ты как там, болеешь?
— Болею, — хрипло отозвался Денисов, — Чай пью.
— Меня пригласишь на чай-то?
— Приходи. Заварка свежая.
Денисов жил не в итээровском городке, а в селе, почти в центре, рядом с клубом. Проходя мимо, следователь услыхал из распахнутых клубных окон музыку: задорную, бесшабашно-веселую, которая вряд ли подходила к фильму, обозначенному на белой афише: «Поэт и царь». С иронией подумал, что и сам идет к Денисову не с той музыкой, которая соответствует собственному настроению, а уж больного парторга тем более. Но что делать— жизнь зачастую окрашена совсем не в те тональности, которые бы нам хотелось…
Жил Денисов тесновато и, в общем, по-деревенски: деревянные лавки вдоль стен, громадная, как телега, кровать с пышной горой подушек, укрытых поверху кружевной накидкой, беленые стены увешаны семейными фотографиями — в разнокалиберных рамках под стеклом. Изба надвое разделена громоздкой русской печью, а вместо двери в горницу — ситцевая занавеска. Впрочем, всюду чувствовалась опрятность, чистота, ухоженность, от надраенных кастрюль на кухне до прохладных тряпичных половиц по всему полу.
— Хозяйка у соседки, а ребятня в кино ушлындала, — сказал Денисов. — Может, пол-литра раздавим? У меня имеется НЗ.
Он сидел в углу на лавке, вернее, полулежал на подоткнутых двух подушках и улыбался, делал бодрый вид, хотя получалось это у него плохо: обтянутые скулы, запавшие глаза, вымученная улыбка вызывали откровенную жалость.
— Пить не будем, — отмахнулся Матюхин. — Чайком побалуемся.