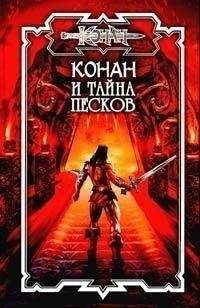— Отольется ему твоя кровь...
Таня грустно улыбнулась и затихла. Тускло мерцала свечка. Шуршал в руках матери бинт. Под порывами ветра вздрагивала старая клеть. Где-то далеко лаяли собаки. А в центре села, словно призывая беду на свою бесшабашную голову, горланил чудом уцелевший петух.
— Мама, слышишь? Это светает! — вдруг встрепенулась Таня.
— Полежи. День еще не скоро, — откликнулась мать, но Таня заторопилась:
— Нет, мама, нет, — решительно возразила она. — Мне надо идти. Я еще могу успеть...
Она поцеловала мать, встала, сделала шаг к двери и, качнувшись, снова упала.
— Отдохни, и тебе станет лучше, — с дрожью в голосе повторила мать. — Отдохни. А потом я провожу тебя до самого леса.
— Мама, я не выполнила приказ, — глотая слезы, прошептала Таня. — Завтра через наш мост снова пойдут на Москву немецкие танки.
— Ты должна была взорвать мост? — вздрогнув, спросила мать.
Таня кивнула головой и, посмотрев в глаза матери, торопливо зашептала:
— Мы успели мост заминировать... Подвели шнур... Вся наша группа отошла в лес, а я должна была шнур поджечь... И вот в этот момент часовой прострелил мне руки... Но шнура он, кажется, не заметил... Конец его выходит к Лысому камню...
— Хорошо, Таня, — промолчав, промолвила мать.
— Что хорошо, мама?
— Я знаю Лысый камень. А ты иди. До кустов я тебя доведу. Ты сможешь сейчас встать?
— Мама!
— Пора, Таня. Уже светает.
Алена помогла дочери встать, вывела в сад, оттуда — в заросшее лозой старое речище. Там они молча простились, и мать заторопилась назад. В хате отыскала спички, взяла пустое ведро и через огороды пошла к реке.
Брезжил рассвет. На чистом синем небе ветер вздувал последние звезды. Тускло и холодно отсвечивала свинцово-серая гладь реки. А над рекой, изогнувшись, словно огромный зверь перед прыжком, висел мост. И где-то за этим мостом, в темных полях, рычали моторы.
«Это танки», — ускоряя шаги, думала Алена. Она шла той самой дорогой, по которой ходила босоногой девчонкой и по которой потом сама водила своих детей. Тут был знаком ей каждый куст, каждое дерево. Вот береза... Лет тридцать назад, в день их свадьбы, посадил это дерево Сымон...
А вот и Лысый камень...
Алена остановилась, огляделась. В ста шагах от нее, по гулким пролетам моста, ходил часовой. Алена невольно задержала на нем свой взгляд, и горячая кровь внезапно обожгла ее сердце. «Боже! — беззвучно прошептала она, судорожно прижимая к груди левую руку. — Неужели он?»
Какую-то долю минуты она колебалась, потом бросила у камня ведро и пошла к мосту. Часовой что-то кричал ей, но она не слышала его слов и все ускоряла и ускоряла шаг. И чем ближе подходила к насыпи и колючей проволоке, тем сильнее и больнее билось ее сердце.
...Да, мост охранял он, ее сын, ее Павел. В руках у него была немецкая винтовка. Она уже отчетливо видела его лицо — нос, глаза, губы, даже родинку на левой щеке... Вот этими глазами он когда-то улыбался ей из колыбели, этими губами касался ее груди!.. До чего знакомой и родной была на лице каждая черточка и... незнакомой, чужой — чужой и холодной до дрожи.
— Ты чего пришла?! — беспокойно оглядевшись по сторонам, раздраженно спросил Павел, и от его голоса тоже дохнуло холодом. — Я же на посту и мог тебя убить!
— Я пришла посмотреть на тебя. Ты не приходил домой полгода, а я больна.
На мгновение что-то дрогнуло на лице сына. Отведя глаза в сторону, он тихо ответил:
— Я не мог тебя навестить. Я служу в другом гарнизоне. Но сегодня приду. Вот скоро сменюсь с поста, и приду.
— Ты давно тут стоишь?
— Всю ночь. У нас мало людей.
Серое лицо матери стало белым.
— Значит... значит... это ты!.. Это ты! — всем телом подавшись вперед, заговорила она, но Павел резко оборвал ее:
— Уходи! — крикнул он, снова беспокойно оглядываясь на доты. — Нам запрещено на посту разговаривать. Наговоримся дома.
— Ну что ж, пусть будет так, — помолчав, глубоко вздохнула Адена. — Я посмотрю на тебя издали, вон от того камня...
Алена запахнула на груди старенький ватник, засунула руки в рукава и пошла назад, к Лысому камню. У камня остановилась, глянула себе под ноги. Вот он, шнур, рядом, возле самого ведра. Дрожащими пальцами мать нащупала спички, еще раз посмотрела на мост и. медленно согнулась, будто для того чтобы взять ведро...
Шнур вспыхнул мгновенно. Алена видела, как быстро меняется его цвет, из серого становится темно-коричневым, потом — черным. Вздуваясь, черное кольцо катилось по шнуру все дальше и дальше, словно торопилось к железобетонной громаде, пролеты которой уже содрогались под тяжестью вражеских танков...
...Алена не услышала взрыва. В какое-то мгновение она увидела только желтое пламя, потом — густое черное облако. Казалось, что это облако окутало всю землю. А когда оно развеялось, то над рекой уже ничего не было: ни моста, ни того, кто его охранял. Только дымились обломки железобетона, да плыли по мутной воде пузыри...
Алена вытерла рукой сухие глаза, осторожно, будто он мог обжечь ей ноги, переступила черный, обугленный шнур и пошла прочь.
Где-то позади нее, на другом берегу реки, взахлеб застрочил пулемет. Что-то сильно и больно толкнуло в спину. Покачнулась земля и выскользнула из-под ног...
...Холод влажной земли на миг вернул Алене сознание. Она раскрыла глаза и увидела солнце. Спокойное и величественное, оно плыло низко над лесом и, освещенные его лучами, вершины далеких деревьев нежно алели. Алена смотрела угасающим взором на эти розовые вершины, на розовое небо, на огромное солнце…
Глава пятая. «ИНСПЕКТОР» РЕЙХСМАРШАЛА ГЕРИНГА
Унтерштурмфюрер Шлемер увез в Берлин «строго секретный» русский приказ, а комендант Отто фон Зейдлиц, ожидая заслуженных наград и чинов, стал неторопливо готовиться к разгрому партизанских отрядов в своем районе. По его расчетам, лесные бандиты смогут активизироваться не раньше, чем через месяц, ибо у них нет ни достаточного количества оружия, ни взрывчатки.
Однако на сей раз фон Зейдлиц просчитался. Уже через день рухнул в воду мост на Березине, а потом были взорваны мосты возле Вятич и Лозового.
Два последних взрыва, парализовавшие важнейшие коммуникации, были настолько сильны, что их раскаты достигли Берлина, и вскоре фон Зейдлиц получил не очень приятное для себя письмо. Шеф, дальний родственник, который любил его и во всем ему благоволил, на сей раз раздраженно писал:
«Господин обер-фюрер! Поздравляю с наступающим Новым годом и благодарю за оказанную рейху услугу. Тем не менее вынужден строго предупредить, что если вы в самое короткое время не ликвидируете русские разведывательно-диверсионные группы, которые действуют на подчиненной вам территории, мне придется сделать соответствующие выводы...»
Что это будут за выводы — Отто фон Зейдлиц понимал отлично.
Он нажал кнопку звонка, приказал:
— Бургомистра!
Пан Вальковский, предчувствуя недоброе, не заставил себя ждать. Осторожно, боком войдя в кабинет обер-фюрера, он замер у порога, чего раньше почти никогда не делал.
— Проходите к столу, садитесь, — не подавая руки, холодно бросил Зейдлиц. — Есть новости, которые, надеюсь, «обрадуют» и вас. — Он снял телефонную трубку, снова отрывисто приказал:
— Дановского!
Вальковский побледнел. Резко подавшись вперед, он еле слышно спросил:
— Дановский — жив?
— Ха, жив! Не только жив, но и здоров, как... как огурчик!
— Простите, но я... я ничего не понимаю, — растерялся горбун, с недоверием глядя в глаза эсэсовца. — Все наши... все те, кто ехал на дрезине и кто охранял мост, — погибли! Как же уцелел он?
— А вот об этом мы сейчас у него самого и спросим.
...Обер-фюрер хватил немного через край. Лейтенант Дановский мало походил на огурчик. Скорее он напоминал молодой, высушенный солнцем, гриб. Губы его пересохли, потрескались до крови, глаза лихорадочно горели, а небритые щеки были землисто-серые и как-то судорожно дергались.
Переступив порог, Дановский попытался приветствовать шефа по-фашистски, но рука почему-то не послушалась, и он сник, опустил глаза.
— Вот, полюбуйтесь, граф! — с презрением показав пальцем на Дановского, злорадно воскликнул эсэсовец. — Сам, на собственной дрезине, отвез русских диверсантов на мост, а теперь вот, радуйтесь: явился! Видимо, пришел получить награду за свой выдающийся подвиг! М-мерзавец!..
Дановский вздрогнул, поднял глаза, и Ползунович-Вальковский увидел в этих воспаленных глазах смертельный страх. И ему вдруг стало жаль Дановского, человека, который все же был ему близок и по духу, и по судьбе, а потому он поспешил ему на помощь.
— Мне думается, мой фюрер, — несмело заговорил он, — что господин лейтенант чистосердечно признается, объяснит, как такое могло с ним случиться.
— Ха, объяснит! Что он может объяснить? Вы думаете, что этот тип признается, как он снова продался русским?