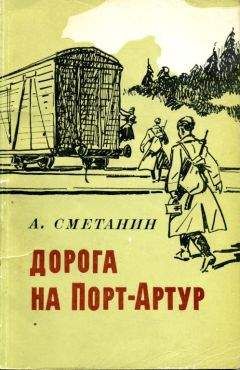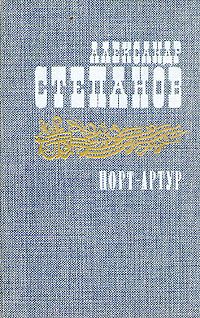— Он, говоришь?
— Определенно, он. Больше некому. Все облазили...
— Не думаю, Алексей. Ему на погост пора, а не с автоматом по развалинам прятаться.
— Не думаете? — Недоверие Кузнецова задело Сивкова за живое. Он быстро подошел к немцу спереди, стволом автомата поднял голову старика. — А вы на буркалы его гляньте. Гляньте! Волк-волком!
Мы глянули на «буркалы» немца и невольно заулыбались. В глазах старика, когда-то голубых, ничего не было, кроме крайней растерянности. Он смотрел на нас так, как смотрят маленькие дети на что-то такое, увиденное ими впервые, поразившее их воображение, вроде «вылетевшей» из объектива фотоаппарата птички.
В этих глазах угадывалось столько доброты, что даже мы, огрубевшие на войне, далеко не сентиментальные люди, сумели разглядеть это. Все, кроме Сивкова.
— Значит, настаиваешь на том, что он стрелял? — Кузнецов тяжело поднялся с кресла и, держась за стенку, подошел к немцу.
— А если бы не он, тогда чего бы ему было прятаться. Знаете, где я его нашел? В канализационном колодце. Вот где! Фашист он натуральный...
— А оружие у него было? — Вмешался в разговор я.
— Не было. Кинул, наверное, когда прятался. Да вот мы его сейчас допросим. Все скажет как миленький.
Сивков повел автоматом в сторону старика, спросил:
— Говори, ты паф-паф в младшего лейтенанта?
Немец перепугался, отступил на шаг. В его слезящихся глазах растерянность сменилась испугом.
— Отвечай! — прикрикнул на него Алексей.
— Я, я, я, — проговорил старик, продолжая пятиться к стенке.
— Ну вот, — Алексей опустил автомат. — Сам признался. «Я» — говорит.
Мы рассмеялись.
— Чего это вы? — Алексей, удивленный, поочередно оглядел всех.
— «Я» по-немецки означает «да», — Кузнецов, забыв про боль, улыбнулся, снова направился к креслу. — А вот что это «да» у него означает, мы не знаем. Ты хоть обыскал его?
— Нет.
Алексей молча взял автомат «на ремень», подошел к немцу вплотную, обшарил его карманы, но ничего не нашел, кроме большого черного карандаша.
— Вот все, — Сивков положил карандаш на ящик перед младшим лейтенантом. — Оружие он определенно спрятал. Знаю я их подлую фашистскую натуру.
Решил вмешаться в дело я. Сивков словесных убеждений не признает. Ему нужны факты.
— Ты кто ист, дед? — спросил я старика. — Профессия твоя какая? Где ты арбайт? Шпрехен?
Старик, кажется, понял меня, но по-прежнему смотрел на Сивкова, на его круглые, сейчас злые глаза, на рыжеватый чубчик, выбивающийся из-под шапки. Я догадывался, что из всех нас старик боится только его.
Я продолжал допрос:
— Ты ист фашист?
— Найн, найн! — Немец боязливо замахал руками, отходя к стене. — Наци — нихт, зольдат — нихт, паф-паф — нихт!
— Ты ист фольксштурм?
— Найн. — Старик распрямился, в его глазах сверкнул огонек. Ткнув себя в грудь длинным грязным пальцем, он сказал с расстановкой: — Их бин кунцмалер. Ферштейн зи?
— Чего? — переспросил Сивков немца.
— Их бин кунцмалер!
Мы переглянулись. Алексей недоуменно пожал плечами.
— Может, он по плотницкой части, — высказал предположение молоденький телефонист. — Опять же опилки у него на штанах.
— А мне сдается — из парикмахеров он. Пальцы больно длинные, — пробасил кто-то из угла подвала. У нас в райцентре парикмахер такие имел.
Мы замолчали. Это не ускользнуло от внимания старика. Он насторожился, подозрительно оглядел всех нас. Где-то в его сознании, очевидно, мелькнула тревожная мысль о том, что эти русские солдаты посоветовались между собой и уже вынесли ему смертный приговор.
Глаза старика потухли, и весь он как-то сник, уставившись взглядом на руки Сивкова, державшие автомат. Он, видимо, мысленно приготовился к смерти и ждал лишь того, когда она наступит.
Словно разгадав мысли немца, Куклев подошел к немцу, -положил руку на плечо.
— Да не боись ты, не боись! Не сделаем мы тебе худа, дед!
— Отпусти его, Сивков, — младший лейтенант махнул рукой. — Пусть идет туда, в очередь за кашей.
Но немец неправильно растолковал жест Ивана Ивановича. Он решил, что офицер приказывает вывести его и расстрелять.
— Наци — нихт! Паф-паф — нихт! — крикнул он и вдруг распрямился, одернул куртку, схватил карандаш, лежавший на ящике перед Кузнецовым, и взял Сивкова за рукав.
— Битте!
— Но, но! — грозно осадил немца Алексей, отнимая руку, но тот не сдавался.
— Битте, битте...
— Ну чего ты упираешься, Алексей? — сказал я. — Поглядим, чего он хочет.
Сивков уступил, сел на патронный ящик, на который указал ему старик, и повернул голову к нам в профиль.
А немец преобразился. В его глазах опять вспыхнул огонек, рука, державшая карандаш, перестала дрожать, густые с проседью брови взметнулись вверх.
Он подошел к стене, где сохранился большой пласт зеленой штукатурки, и взмахнул (именно взмахнул) карандашом. На штукатурку лег один штрих, другой, третий, и вдруг на ней, как на фотобумаге, опущенной в проявитель, показалась Сивковская прическа, вздернутый нос, круглый глаз.
Старик рисовал и рисовал, не обращая на нас ни малейшего внимания. Он весь был поглощен работой, и только ею. Большой черный карандаш, который он держал не так, как это делаем мы, мельтешил перед глазами, а на штукатурке появлялись то медаль, то измятый солдатский погон, то пуговица на видавшей виды телогрейке.
— Во дает! Во дает! А Сивков-то ваш как живой! — Телефонист оставил свой аппарат и стоял перед портретом с полуоткрытым ртом, не сводя с немца восхищенных глаз.
Вот старик сделал два-три последних штришка, небрежно сунул карандаш в верхний карман блузы и, торжественно оглядев нас, еще раз сказал:
— Их бин кунцмалер!
Теперь мы поняли — он художник.
Когда немца отпустили «за недостаточностью улик», Иван Иванович встал с кресла, попрощался со всеми за руку, обнял меня.
— Ну, будь здоров, мой первый командир! До скорой встречи! Думаю, долго не задержусь в госпитале. Рана-то пустяковая. Пошли, Алексей.
Вот что произошло сегодня утром с младшим лейтенантом Кузнецовым.
...Когда все начальство разошлось, возвращаюсь в дом, ложусь на диван и накрываюсь шинелью.
Но заснуть опять не могу. Память уводит меня к событиям совсем недавнего прошлого.
Мы тогда прорвались из окружения сравнительно легко. Старшина-артиллерист так и нес на себе Вадима Вадимовича вплоть до выхода к своим.
Там мы снова положили майора на плащ-палатку и отнесли в санчасть оборонявшегося на этом участке стрелкового полка.
Майор Полонский взял с меня слово, что я обязательно приеду к нему в Ленинград, но зимой.
— Почему именно зимой, товарищ майор?
— Потому что мы пойдем с тобой на Невский проспект смотреть Казанский собор при ночном освещении, когда идет редкий снег. Ничего более величаво-таинственного, Сережа, я в жизни не наблюдал. И еще один совет тебе, Сережа: хорошенько запомни все, что пережил. Пройдут годы, и ты расскажешь людям о нас, о войне. Ведь ты ее не в бинокль видел.
Нас отвели на отдых, пополнили, а в конце марта снова направили на передовую. Дней десять мы готовились к наступлению на Кенигсберг.
Нашей роте, которой теперь командовал лейтенант Гусев, было приказано действовать в составе танкового десанта. Это значит, вместе с танкистами и самоходчиками мы должны были пробиться к берегу, перерезать приморское шоссе, идущее вдоль залива от Кенигсберга на Пиллау, и не допустить по нему движения немцев ни на восток, ни на запад.
В ночь перед наступлением Гусев собрал коммунистов роты. Я был принят кандидатом в члены партии, хотя кандидатской карточки еще не получил, и впервые присутствовал на таком необычном собрании.
Гусев говорил мало, зато понятно. После того как полк прорвет оборону немцев на глубину первой позиции, овладеет ее тремя траншеями, мы вместе с танкистами должны на плечах противника ворваться в глубину вражеской обороны, перерезать шоссе и удерживать его.
— Не скрою, — закончил он, — что мы окажемся как бы между молотом и наковальней. Немцы сделают все, чтобы уничтожить нас и очистить шоссе Кенигсберг — Пиллау. Задача коммунистов: личным примером в бою показать, как нужно выполнять полученный приказ.
На рассвете 6 апреля началась артиллерийская подготовка. На город-крепость, на вражескую оборону западнее его, там, где должны наступать мы, обрушилось столько огня, что, казалось, сама земля не выдержит такого удара.
Волна за волной в несколько этажей шли наши самолеты. Они сбрасывали на врага тысячи бомб, снарядов, эрэсы, поливали из пушек и пулеметов. Над городом висели гигантские облака дыма, в котором скрывались самолеты, выходя из пикирования. Вслед им неслись трассы очередей зенитных пулеметов и пушек, хорошо видимые на фоне черной стены дыма.