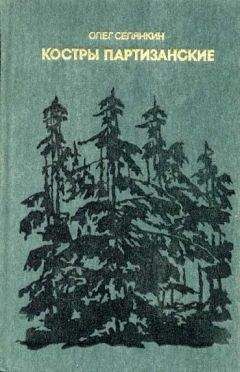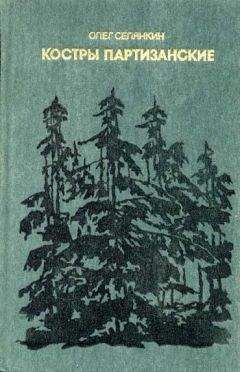— Товарищ Каргин, да разве я мог думать…
— Голова любому человеку в первую очередь для этого и дана! — все же сорвался Каргин и, чтобы спасти себя от еще большего позора (кричать на подчиненного он считал позором), скомандовал: — Кру… гом! Шагом… марш!
Стригаленок, разумеется, ослушаться не посмел.
Потом были четыре ночи, полные ожидания обещанного самолета. Хотя подобного приказа никто не отдавал, в эти ночи бодрствовали все. Ожидали самолет, ожидали и… подпсиховывали. Однажды даже Федор ни с того ни с сего на Юрку раскричался.
Единственная радость — к Заливному Лугу фашисты в эти дни даже не приближались. Днем по тракту еще пробегали их машины, а только начинало солнце за лес скользить — будто вымирало все вокруг.
Самолет появился только пятой ночью. Гул его моторов так взволновал всех, что даже Каргин, как-то незаметно для себя, умудрился вскарабкаться на высоченный пень и стоял там почти на одной ноге. Еле стоял, а все тянулся вверх, чтобы хоть на сантиметр, но быть поближе к звездному небу, откуда плыл ровный и мощный гул моторов.
— Разрешите, товарищ Каргин? — почему-то шепчет Юрка, хотя пока можно говорить и в полный голос.
Своими мыслями был занят Каргин, потому не понял Юрку, потому и спросил:
— Чего разрешить-то?
— Мы сбегаем, а? Только одним глазочком глянем и мигом обратно?
За спиной Юрки угадывалась почти вся рота. И Каргин, чувствуя по себе, насколько велико это общее желание взглянуть на людей, которые еще несколько часов назад были на Большой земле, сказал:
— Повзводно. Начиная с первого.
Радостным гулом ответил лес, какое-то время потрескивали сучья под ногами бегущих, и снова все стихло. И тогда Каргин спрыгнул с пня, пошел не к Заливному Лугу, а на рубеж обороны своей роты: он как командир не имел права поддаваться эмоциям.
Все бойцы роты Каргина побывали у самолета. Счастливчикам удалось даже несколькими словами перекинуться с летчиками. Незначительными, общими словами перекинуться. Но чуть позднее, уже в расположении своей роты, они убежденно врали, будто бы летчики сообщили им о том, что в Москве полный порядок и вообще во всей стране все нормально, настолько нормально, что фрицам вот-вот полный капут будет.
Самое же интересное — остальные знали, что ничего подобного летчики не говорили, но все равно очень внимательно и взволнованно выслушивали все байки, даже верили в эти искренние домыслы. Не потому ли, что больше всего хотели именно это услышать?
А о том, что из самолета выгрузили рацию, взрывчатку и новенькие автоматы, — об этом никто и словом не обмолвился. И опять же почему? К тому времени каждый уже твердо знал, что болтать о таком — себе, общему делу вредить.
Казалось, неоправданно скоро, разметав тишину ревом моторов, самолет взмыл в небо и, сделав круг, ушел на восток, ушел туда, откуда — это все точно знали — вскоре должно было появиться солнце.
Едва рассвело — на тракте подняла пыль грузовая машина, в кузове которой сидели солдаты в глубоких касках. Она была точной копией той, которую видел Каргин еще в прошлом году, когда стоял часовым у склада. И солдаты в ее кузове сидели точно так же: плотными и правильными рядами.
Велико было желание приказать открыть по ней огонь, но Каргин уже понял, что эта машина — только разведка, что ее задача — найти ту поляну, где приземлялся самолет, и осмотреть ее. Да и бежала машина вроде бы не к Заливному Лугу, а сама не знала куда. Так стоило ли обнаруживать себя? И смолчали автоматы, винтовки и пулеметы.
Однако, пройдя еще с километр, машина остановилась. Из ее кузова выпрыгнули солдаты, раскинулись в цепь и, держа автоматы у живота, пошли в лес. Тогда и открыл огонь сосед Каргина, огонь неистовый, беспощадный. И ни один фашистский солдат не вернулся на дорогу. А вскоре, подперев голубое небо лохматым столбом черного дыма, запылала и машина.
Не успел осесть столб этого дыма — появился Пилипчук. Был он возбужден, светился радостью, сквозь которую, однако, просматривались забота и даже тревога.
— Теперь, Иван Степанович, для нас самое главное только начинается, — сказал он, присаживаясь рядом с Каргиным. — И зачем они подпалили эту чертову машину? Вот что получается, Иван, когда человек мозги свои отключает. А сегодня ночью к нам два самолета должны прибыть, один за другим… Кровь из носа, но они обязаны приземлиться благополучно!
— Только приземлиться? Разгружаться и взлетать им уже не обязательно? — подначил Каргин, которому было радостно оттого, что один самолет уже приняли, что одну вражескую машину с солдатами на тот свет уже отправили, наконец, и оттого, что так волновался начальник штаба бригады — кадровый командир: оказывается, приятно вдруг узнать, что твои слабости и другому человеку присущи.
Пилипчук шутки не принял, продолжал в том же несколько возвышенном тоне:
— Если потребуется, вы здесь костьми лечь должны, но…
— Или ты, Костя, азы военной науки позабыл? Не знаешь, не можешь предвидеть, что фашисты делать теперь станут? — не сдавал позиций Каргин.
— Считаешь, сначала долгую разведку поведут и лишь завтра, подсобрав силы, сюда заявятся?
— А как иначе, если того военная наука требует?
Ошибся Каргин: не успели они с Пилипчуком и цигарки выкурить, как появился фашистский самолет-разведчик. Над Заливным Лугом он снизился, покружил.
— Вопросы имеешь? — только и сказал Пилипчук, провожая глазами самолет.
— Яснее ясного, — вздохнув, ответил Каргин.
— Вот теперь мы все узнаем, во что нам та сожженная машина обойдется! Разве нельзя было ее потом, когда уходить станем, сжечь? — почти раскричался Пилипчук. — А ты почему сидишь здесь, бездельничаешь?
— Соответствующие приказания давно отданы. Только корректировать их по ходу боя стану.
Пилипчук пристально посмотрел на окаменевшее в спокойствии лицо Каргина и вдруг понял главное, то самое, что Иван так старательно скрывал все это время: здорово волновался Каргин, даже побаивался этого боя, который должен здесь закипеть в ближайшие часы. Это открытие на какие-то секунды обескуражило Пилипчука. Но он почти сразу же осознал, что так оно и должно быть, если Каргин нормальный человек: ведь это будет его первый бой. Тот самый, в котором он мог участвовать еще в прошлом году. Рядовым бойцом участвовать. Однако судьба не дозволила, на другой путь толкнула. Конечно, минувший год для Каргина не пропал даром, явился хорошей школой и, если быть откровенным, — проверкой характера. В течение года Каргин неоднократно грудь с грудью сходился с ненавистным врагом, безжалостно уничтожал его. Но только очень наивный и недалекий человек может сравнить те, прошлогодние, выстрелы из засад с тем, что предстояло свершить сейчас. Сегодня Каргину придется участвовать в настоящем бою, а не стрелять по одиночному фашисту. Да еще и не рядовым бойцом, а командиром роты в первом своем бою участвовать. Вот и подпсиховывал Иван Степанович, поэтому и старался казаться абсолютно спокойным, даже несколько развязным, хотя у самого сердечко во как екало!
А разве он, старший лейтенант Пилипчук, не испытывал подобное, когда свой первый бой принимал?
— Хочешь, я с тобой останусь? Свяжусь с комбригом, поговорю с ним и останусь? — просто, как о самом обыденном, спросил Пилипчук.
Каргин понял, что его душевное состояние уже не тайна. Это не породило обиды, стыда или раздражения. Больше того: почему-то стало спокойнее; словно это предложение Пилипчука сил добавило. И еще Каргин понял, что, останься здесь начальник штаба бригады, — он, Каргин, как бы спрячется за его спину, большую часть ответственности с себя снимет, заявив в случае неудачи, мол, а при чем здесь я, если он командование на себя принял?
Именно вот это и ни к чему! Он, Иван Каргин, не маленький, чтобы за дядю прятаться!
Но чувство благодарности было так велико, что не позволило обиде окрепнуть, мгновенно смяло, опрокинуло ее, и Каргин ответил непривычно мягко:
— Не надо, Костя… И спасибо…
Пилипчук, словно думая, как ему следует поступить, помешкал еще несколько минут, потом решительно поднялся, даже сделал первые шаги, но все же остановился и сказал внятно, четко:
— Я не прощаюсь. Понял, Иван?
— Ага… А вообще-то… Ты не переживай. Стрельба начнется — сразу в норму войду…
6
Прошла растерянность первых дней, когда, уйдя в лес, Виктор вдруг оказался старшим над всеми недавними жителями Слепышей, — вернулись былое спокойствие и уверенность. Теперь он, свалив все хозяйственные заботы на Груню, только и думал о том, как бы побольнее куснуть фашистов. Теперь он уже точно знал, что они с Афоней не способны свершить что-то особо, выдающееся, значит, надо делать посильное. Обязательно делать, и как можно чаще! И они повадились ходить на тракт, по которому в последнее время даже ночами шли колонны вражеских машин с солдатами или самыми различными грузами. На двадцать и даже тридцать километров от своего лагеря уходили. Вот и сегодня залегли в ельнике у того же тракта. Уже третий час лежали, а единственное, что увидели, — семь порожних грузовиков, которые, пластая ночь на куски лучами фар, прошумели куда-то на запад. В самом начале ночи это было. И с тех пор никого и ничего. Но они, покуривая поочередно в рукав, чтобы даже искорки со стороны кто не заметил, терпеливо лежали под облюбованными елками. И молчали: о чем говорить, если все, что может сегодня произойти, не только обговорено до последней мелочи, но и отработано в прошлые разы?