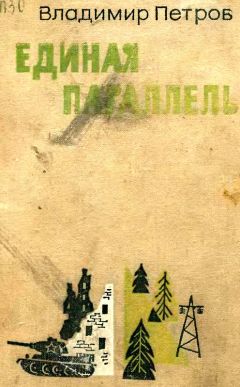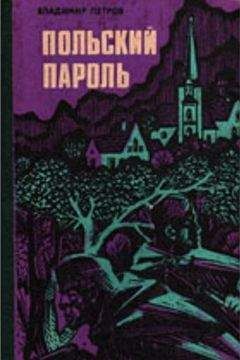Его предупредили насчет возможного сокращения сроков задания: приказ может поступить неожиданно — и через год, и через несколько месяцев. А может, и завтра — этого никто не знает.
А у него ничего нет, кроме общего плана. Схематичного и расплывчатого. Собственно говоря, у него пока но было даже общей аналитической картины, содержащей конкретное знание обстановки, на которой следовало базировать план действий.
Шилов уже несколько вечеров допоздна засиживался в своем кабинете — квадратной комнате с широкими окнами. Дом стройуправления именно здесь опасно близко выходил к самому торцу утеса, и директорский кабинет парил над провалом, врезался углом в ветреный упругий простор, как рубка боевого корабля. В кабинете всегда было свежо, чуть-чуть неуютно от гуляющего легкого сквознячка — табачный дым тут не держался, оставался только запах.
Но зато был вид, от которого с непривычки захватывало дыхание: пугающая пустота за подоконником, а чуть выше — безбрежная густая синева воды, вся в живых переливах белесых волн, будто торопливо убегающих к черте далеких хребтов.
В сумерках оживала иная красота: вспыхивал и висел над ущельем ажурный огненный мост, позднее в чернильной темноте он казался нереальным, фантастическим — эдакой цепочкой-украшением, парящей в ночи между небом и землей. Впрочем, если присмотреться, белый гребень плотины все-таки был виден меж рядами огней, и это тоже вызывало смутное волнение: чем не начало его личного «большого огненного пути» в будущее?
Иногда распахнув окно, Шилов курил папиросу и долго глядел на плотину, усмехаясь, не сдерживая затаенного торжества: в эти мгновения он чувствовал себя историческим палачом, призванным свершить исторический приговор… Временами ему даже казалось, что серый бетонный колосс вздрагивает под его прищуренным взглядом.
Однако он понимал и хорошо представлял реальность: от приговора до исполнения — дистанция очень большого размера. Щелчком отбросив в темноту горящую папиросу, он возвращался к столу, чтобы снова и снова преодолевать эту дистанцию, и садился за схемы, чертежи и расчеты.
Его интересовало все — от первого колышка до сегодняшнего дня, — все, чем жила и дышала плотина. От подготовки фундамента, забивки шпунта и цементационной завесы, до укладки в секции бетонных блоков по вчерашней рабочей сводке. Он знал напряжение каменных ряжей по отводьям плотины, знал все места, где «фильтрует» бетон и монолит дает ощутимую течь, математически точно рассчитал водяной напор на решетки водосбора и приемной камеры гидротуннеля местной ГЭС — он многое уже знал. Но пока не знал, не сумел еще определить наиболее уязвимое место обреченного бетонокаменного монолита. А оно должно быть, потому что своим творениям человек обязательно передает свои достоинства и слабости, в том числе и пресловутую ахиллесову пяту.
В сущности, он в одиночестве решал архисложную задачу, пытаясь разрушить то, что создавалось сотнями людей в течение нескольких лет. Неправда, что разрушать легче, чем создавать: разрушение столь же сложно, как и созидание, только здесь счет идет не на физическую, а интеллектуальную силу.
Неожиданно зазвонил телефон, и Шилов машинально взглянул на часы: без четверти двенадцать. Интересно, кому он понадобился в самую полночь?
— Слушаю.
Как ни странно, на другом конце провода оказался завкон Корытин: нельзя было не узнать его тяжкого медвежьего сопения.
— Я слушаю! — громко повторил Шилов, — Ну говорите.
— Добрый вечер, Викентий Федорович. Мне передали, что вы разыскивали меня. Так я на проводе.
Язык у завкона явно заплетался. «Опять, кажется, напился, мерзавец», — подумал Шилов.
— Я вас разыскивал вечером. А сейчас уже полночь, — сухо сказал Шилов и отстранил трубку: показалось, что от нее крепко несет водочным перегаром.
— Прошу извинения. Так сказать, нижайше… — бормотал Корытин, — Однако осмелюсь доложить, был при исполнении. Так сказать, при исполнении своего гражданского долга. Весьма прискорбного… — Шилову послышалось, что завкон пьяно всхлипнул в трубку.
— Что вы буровите, Корытин?
— Точно так, Викентий Федорович! Воистину и всенепременно преисполнен скорби. По причине печальных похорон, а также товарищеских поминок. Царствие небесное… — Корытин опять всхлипнул.
— Да объясните толком, черт побери! Кого хоронили?
— Незабвенного товарища Савоськина, нашего конюха. Да будет пухом ему земля! Намедни угорел прямо в своей бане — доглядеть некому было, бобылем жил.
К тому же под хмельком отправился париться — любил выпить покойничек, был за ним такой грех. Ай-ай-ай!.. Такой работник был справный, такой мужик…
— Ладно, не расстраивайтесь, — кашлянул Шилов и подумал, что умирать конюху, может, еще и не время было: следователь-то уехал спокойно, даже не копнув этого дела. Впрочем, кто его знает — ведь интересовался, очень даже многозначительно «удочки закидывал»…
— Жалко, — неожиданно трезво сказал Корытин. — Человек все-таки, не тварь безъязыкая.
— Все мы там будем, — меланхолично заметил Шилов. — Давайте говорить о деле. Прошу завтра к семи подать мне ходки — поеду на рабочий сбросовый туннель.
— Завтра воскресенье, Викентий Федорович.
— Это не ваше дело. Для меня — рабочий день. Кучера не надо, сам управлюсь, пускай отдыхает.
— Слушаюсь.
Шилов походил по кабинету, уложил в сейф бумаги, закурил, поглядывая на часы: ждал двенадцати, ждал последние известия. Затем включил радио.
Уже первые два слова из репродуктора заставили его снова вскочить. Он почувствовал внезапную стесненность в груди, звенящую встревоженную радость: «Ожидается решительное наступление на Мадрид, ожидается вмешательство итало-германских войск…».
Рывком распахнув окно, он безбоязненно сел на подоконник, жадно втягивая холодный сырой воздух ущелья, — пусть эти слова услышит и дремлющий внизу самоуверенный бетонный великан, пусть услышит и поймет, что, может быть, в этих фразах таят надежды на последнюю отсрочку его приговора!
Счастливая догадка молнией сверкнула в возбужденном мозгу: так вот чем объясняется долгое радиомолчание берлинских наставников! Им сейчас просто не до него: наци, кажется, начинают заваривать настоящую бучу-кашу в глобальном масштабе! Но это значит, что в самое ближайшее время стратеги отдернут шторку на оперативной карте и начнут пересчитывать все «забитые гвозди» в отдаленных местах! Вспомнят и о нем. «Воистину и всенепременно», как выражается этот белогвардейский кретин Корытин.
Спешить и действовать! Уже сейчас, немедленно… Шилов метнулся к телефону, но, когда услыхал сонный голос телефонистки, сразу осадил себя: спокойно, без спешки, без паники! Усталым голосом назвал квартиру Корытина. Тот долго не отвечал, а когда взял трубку, с минуту сердито кхекал, отхаркивался:
— Ну какого дьявола? Чего надо?
«А ведь он совсем не пьян, — сообразил Шилов. — Странно, не успел же выспаться за десять минут? Тоже мне артист с цыганской харей».
— Это я, Шилов. Значит, так: назавтра обстановка изменилась. Вместо тележки подать двух верховых лошадей. Поедете со мной.
— С какой это стати? — недовольно пробурчал Корытин.
— Согласно вашим служебным обязанностям! — тоном приказа произнес Шилов и повесил трубку.
Ночь прошла беспокойно: не спалось. Душно было даже при открытом окне, к тому же за рекой, в ближнем распадке, все время кричал сыч, стонал жалобно и жутковато. «Сыч кричит к ненастью», — ворочаясь в постели, вспомнил инженер местное кержацкое поверье.
Наверно, так оно и было, потому что берлинское радио послушать не удалось — приемник трещал разрядами, как смолистые поленья в печи. Где-то над Европой, может быть уже в Приуралье, летними грозами накатывался гигантский циклон.
Утром Корытин явился задолго до назначенного срока и принялся дразнить сторожевого Рекса, наверно, кидал в него камнями: от ярости пес временами срывался на утробный вой, а цепь гремела, будто карьерная камнедробилка.
Шилов высунулся в окно, погрозил кулаком завкону: «Уймись!» — и подумал, что из Корытина, в сущности, дерьмовый помощник: злобы в нем больше, чем решительности, уж не говоря об уме. Но что поделаешь — пока просто не на кого рассчитывать…
Они выехали через несколько минут, сразу, не разговаривая, пустили коней легкой рысью. Иноходцы шли ровно, скользяще-картинно, приятно пахло кожаной сбруей, стелилась на поводья, щекотала руки конская грива — к Шилову возвращалась обычная деловая бодрость, тем более что день занимался на славу, никакого ненастья, похоже, пока и не предвиделось.
Он думал о том, что едущий рядом Корытин — «цыганское высокоблагородие» — весьма осложнил обстановку! в которой им обоим уже сегодня предстоит начинать дело. Чего стоит один только приезд следователя, взбаламутивший местную идиллию! Настороженность, повышенная подозрительность, усиленный контроль — вот хотя бы некоторые из многочисленных волн от камня, брошенного Корытиным в черемшанский омут. Теперь к этому прибавилось еще и «мокрое дело»… Махровая уголовщина, о которой он думал недавно с высокомерным отвращением. Да, ничего не попишешь: высокая политика никогда не делается чистыми руками. «Чистые руки» — демагогия, не более того.