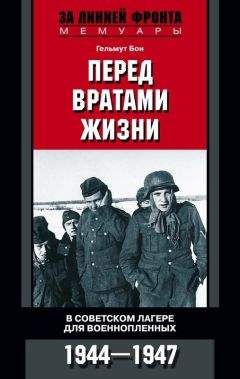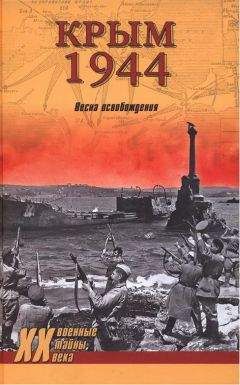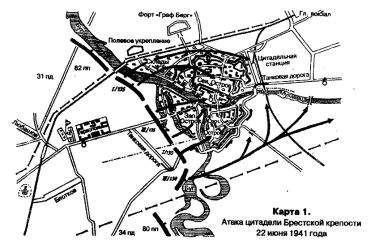Во время обеденного перерыва в понедельник, после того как староста барака раздал пшенную кашу, дверь барака распахнулась, и к нам вошел посыльный.
— Камрада Бона вызывает актив! — крикнул он.
Ну вот, началось! Покраснев до корней волос, я спустился со своих нар.
— Можно мне съесть твою добавку, если каша еще останется? — крикнул мне вслед мой сосед по нарам. Это был санитар из утятника, вскрывавший трупы, который тем временем тоже оказался среди дистрофиков и у которого было необычайно острое чутье на всякого рода добавки. Но я ничего не ответил на такую наглую просьбу.
Я был рад, когда закрыл за собой утепленную дверь первого барака. Там меня уже ждал Вилли. До войны он был продавцом мороженого в Берлине. Здесь, в антифашистском активе, Вилли отвечает, так сказать, за внутреннюю работу.
— У меня для тебя кое-что есть! — покровительственно говорит мне Вилли. — Зайди за плиту. Можешь поесть супа.
На нижних нарах позади плиты стоят три миски супа. Что за аппетитный жирок плавает сверху!
— У тебя есть ложка? — спрашивает Вилли из другого угла комнаты.
— Да! — с полным ртом отвечаю я, а про себя думаю: «Не задавай глупых вопросов. Как будто ты не знаешь, что любой пленный всегда носит с собой на всякий случай свою ложку!» Хотя надо признать, что тот, кто живет в первом бараке, не является настоящим пленным.
После каждой трапезы они всегда моют свои ложки, и даже в горячей воде, которую специально приносят из бани.
Потом они складывают чистые ложки в специальный ящик для посуды. А обычный пленный просто облизывает свою ложку и прячет ее в нагрудный карман, где он раньше носил авторучку.
Справившись с первой миской супа, я уплетаю вторую, а потом принимаюсь и за третью.
Я слышу, как Вилли возится в передней части барака.
Кто-то входит в барак, но ему не видно, как я, сидя за печкой, расправляюсь с третьей миской супа. Вошедший спрашивает, не может ли он получить в активе пару ботинок. Наверняка он снял шапку, когда входил в барак, громко топая своими деревянными башмаками.
— У нас тоже нет лишних, камрад! Тебе надо обратиться к своему бригадиру! — говорит Вилли, у которого на ногах надеты отличные офицерские сапоги. — Ты съел весь суп? — спрашивает Вилли, когда я выхожу из-за печки.
— А разве это было не для меня одного? — смущенно спрашиваю я. Я действительно не знал, что должен был съесть только одну миску супа.
— Ничего страшного! — успокаивает меня Вилли.
Но у меня возникает такое чувство, что я должен что-то сделать для поддержания своей репутации. Я решаю, что в следующий раз я оставлю свою ложку в бараке. А то это выглядит слишком уж типично для обыкновенного пленного.
Уж я знаю, как полагается вести себя в обществе.
Мои иллюстрации в стенгазете получились довольно удачными. Ларсен, который приходит в лагерь через день, находит мои рисунки неплохими.
А в остальном у меня хватает неприятностей. Многие мои знакомые косо смотрят на тех пленных, которые чувствуют себя своими людьми в антифашистском активе.
— Ну что? Теперь ты стал таким же, как они?
— Теперь тебе осталось только отрастить длинные волосы!
— Да нет же, нет! Я только рисую для стенгазеты! — говорю я Шауте, когда тот подумал, что теперь я работаю в активе.
Сам же Шауте остался в пожарной охране и после сокращения штатов.
Часто, когда у него бывает ночное дежурство, меня назначают дежурить от нашего барака. Тогда мы стоим на посту вместе. Он в своем широком, как корсет, поясе из плотной ткани, а я в тесной шинельке, которую достал себе еще в утятнике.
Каждые полчаса Шауте бьет в рельс. Он звучит так же глухо, как немецкий колокол в Кёльне. Наши дежурства обычно проходят очень спокойно. Сквозь ряды колючей проволоки тускло мерцают огни Осташкова. Время от времени над польским лагерем взлетает сигнальная ракета. Видимо, поляки не такие смирные, как немецкие пленные.
Снова возникает такая же таинственная атмосфера, как во время нашего пребывания на фронте.
— А ты помнишь? — обращаюсь я к Шауте. — Когда мы с тобой были еще в первом батальоне!
Все верно, ведь Шауте и я — фронтовые товарищи.
— Год назад мы с тобой еще вместе рыли окопы, когда занимали круговую оборону на берегу озера Большой Иван (в Невельском районе Псковской области. — Ред.).
— Интересно бы узнать, а что же стало с остальными? — Мы считаем себя обязанными задать этот риторический вопрос.
— А как будет дальше развиваться война?
— Ты слышал, что Германия снова завоевала Голландию и Бельгию? — говорит Шауте.
— Поэтому вот уже в течение восьми дней актив не распечатывает последние известия!
Мы некоторое время молчим, думая каждый о своем. Мне кажется, что Шауте работает на Борисова, шпионя за остальными пленными. Я решаю перевести разговор на другую тему.
— В лагерной библиотеке есть роман о Чингисхане. Тебе надо обязательно прочитать его. Пролог называется «Горе тем, кто сдается!».
Мы не можем ничего изменить. Каждый из нас должен еще разобраться в самом себе, Шауте и я. В данный момент мы радуемся тому, что вместе несем караульную службу.
В небо снова взлетает еще одна сигнальная ракета. Становится светло как днем. И Шауте смотрит на меня:
— Ах, прекрати!
И это означает, что давай будем вести себя так, как будто существует вечное товарищество!
После первых недель моего сотрудничества с активом оптимизма у меня не прибавилось. Хотя Ларсен и сказал, что добьется от Борисова для меня и Курта Ройтера освобождения от физической работы и переселения в первый барак к остальным членам антифашистского актива, но я тем временем уже успел узнать, как в России обстоят дела с обещаниями.
Кто такой Курт Ройтер? Курт Ройтер — это второй человек, которого Ганс охотно принял бы в актив, после того как ушел Йодеке, а сам Ганс принял бразды правления в свои руки.
— Ты должен познакомиться с Куртом! — сказал мне Ганс. — Вчера вечером Курт был у нас и рассказал много интересного. Он работал аудитором и проверял концерны. Вам наверняка будет о чем поговорить друг с другом, сможете обменяться опытом.
Я не испытываю никакой радости от появления конкурента, который «рассказывает много интересного».
Я познакомился с Куртом за печкой. Дело с поеданием нескольких порций супа за печкой вошло у меня уже в привычку. Однажды, когда я, как обычно, прихватив чистую ложку активистов, отправился за печку к своему супу, то обнаружил, что там уже кто-то сидит. Я сразу подумал, что это тот самый аудитор, о котором говорил Ганс. Не поднимая головы, он продолжал жадно хлебать суп, однако немного подвинулся, когда я взял свою миску.
После того как мы поели, Ганс познакомил нас.
— Ах, так это ты! — воскликнул я.
Коньком Курта был план по экономическому спасению Германии. Поэтому он не ходил больше на заготовку торфа. В активе все были в восторге от его плана, который Курт изложил в своей пространной докладной записке.
Я сказал Курту, что в том или ином пункте его плана можно было бы отразить и противоположную точку зрения.
Курт заявил решительное «нет».
Но в тот или иной пункт своего экономического плана он все-таки ввел совершенно противоположное мнение. А в остальном наши с ним интересы совпадали.
Каждое утро активисты тщательно убирали свой отсек барака. Используя швабры, они проводили даже влажную уборку и никогда не экономили воду. Курт и я не раз обсуждали, не следовало ли и нам принимать участие в этих ежедневных уборках помещения.
В конце концов мы пришли к заключению, что нам тоже надо помогать активистам убирать их отсек.
Тот же Мартин всегда участвовал в уборке помещения.
Для нас с Куртом не имело большого значения, будем ли мы махать шваброй или нет. Речь шла о том, было ли принципиально верно с нашей стороны идти в барак активистов именно в то время, когда они занимались уборкой своего помещения.
В первые восемь дней мы здоровались за руку с каждым активистом, со старостой лагеря и со всеми, кто приходил по своим делам в первый барак.
— Доброе утро, Клаус! — говорили мы старосте лагеря.
— Доброе утро, Ганс! — приветствовали мы старосту антифашистского актива.
— Доброе утро, Ганс! — так обращались мы к старосте австрийского актива, которого тоже звали Гансом.
— Доброе утро, Мартин! — Мы оба уважали его больше всех.
И так далее, и так далее.
И только Герману, переводчику старосты лагеря, уже на второй день я перестал говорить «Доброе утро, Герман!».
По крайней мере, перестал подавать ему руку. Герман был родом из Румынии. Ему не было еще и двадцати трех лет, но он всегда был одет с иголочки! У него были самые элегантные сапоги для верховой езды среди всех обитателей первого барака. Военная форма защитного цвета, сшитая по индивидуальному заказу. Он был очень высокомерным. Но у меня сложилось такое впечатление, что он шпионил для второго отдела.