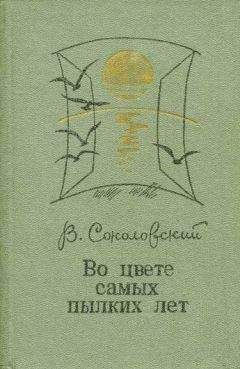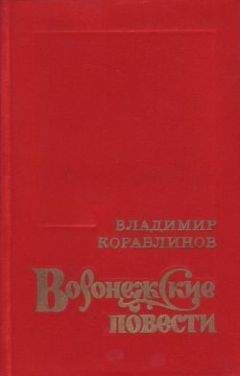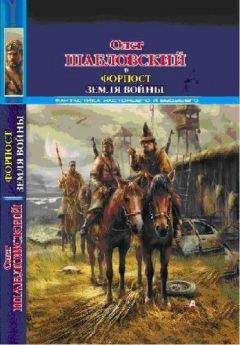По сложной кривой, далеко обогнув глиняные разработки, Мурашов под утро выбрался к городу — как раз туда, к тем развалинам, где ютилась семья старого цыгана. Затаился и пролежал целый день в какой-то яме. Одурь, голод, жажда сморили его. Особенно мучила жажда, Из ямы виднелась близкая окраина, там возле дома стоял колодец, однако Мурашов не мог почему-то заставить себя пойти к нему и напиться. Окликнул возившегося в черной земле цыганенка, испугав его; мальчишка убежал, а капитан снова осел на дно бывшей землянки. Сидел, вытянув ноги, привалясь к стенке. Потом кто-то завозился рядом, и крошечное, остренькое смуглое лицо показалось сверху. Пацан что-то гортанно сказал на чудном молдавско-цыганском диалекте — Мурашов не разобрал смысла слов и прохрипел по-молдавски: «Пить! Принеси воды…» Цыганенок принес воды в черепушке; Мурашов выпил и слабо улыбнулся. Мальчик исчез. Вечером, когда вернулись дед с бабкой, он привел их к яме, в которой сидел Мурашов. Бабка охала, причитала, видно, боялась пришельца, больше всего — что он дезертир или бежавший преступник, что его станут искать и потревожат их непрочное существование. По ее словам, обращенным к мужу, капитан понял: она уговаривает деда скорее убить его и закопать, чтобы избежать беды. Старик колебался; затем, оттолкнув старую цыганку, полез в яму. Ощупал свитку Мурашова, оценил лежащую рядом баранью шапку. Капитан подобрался, решив про себя так: если дед замахнется или бросится на него, он вцепится ему в шею и задушит. Силу своих рук и пальцев он знал, из них не вырваться даже молодому, здоровому. Вода, принесенная днем цыганенком, сильно подбодрила его.
Дед сидел на корточках и внимательно разглядывал незнакомого, чужого человека, склоняя голову то к одному, то к другому плечу. Вынул из кармана цветную тряпку, размотал, достал оттуда кукурузного хлеба, отломил немного и протянул Мурашову. Тот взял, стал жевать, стараясь не торопиться. Старик чуть усмехнулся, спросил:
— Румын?
— Нет. Молдаванин.
— Иди туда. — Цыган указал на город. — Иди туда, в степь. Зачем здесь быть? Мы не знаем, кто ты. Здесь никто не живет. Ни плохой, ни хороший. Только я, моя жена и внук. Мы бедные цыгане, а ты уходи отсюда.
— Мне некуда идти, мош.[2] В городе у меня никого нет, а в степи сразу поймают или убьют. Нет пропуска, понимаешь? Я работал в имении, у боярина, на виноградной давильне. Стал кашлять, приехал доктор, сказал, что начинается туберкулез, мне нельзя работать с продуктами, и меня выгнали из экономии. Я живу недалеко от Вулканешт, в селе.
— Это дальняя дорога! — покачал головой дед. — Туда надо долго добираться. Ты что, заболел? Почему пришел сюда?
— Сегодня меня задержали в степи стражники, отобрали деньги, справку о болезни и пропуск. Как же я пойду дальше?
— Иди в город, к префекту. Там сделают запрос в экономию и в твое село. Когда придут ответы, тебе дадут другой документ и другой пропуск.
— А покуда задержат как бродягу? Думаешь, они станут долго разбираться? Стражники, что задержали меня, предупредили, чтобы я не вздумал на них жаловаться. Сказали: если увидим в городе, — берегись.
На самом деле у Мурашова были при себе и деньги, и справки о болезни, и пропуск на проход от прифронтовой полосы почти через всю Молдавию, к месту прежнего жительства. Все было заполнено и проштемпелевано префектурой и военными властями — по добытым разведкой образцам. Про деньги цыгану не стоило говорить: мало ли какие думы могут возникнуть в голове у старика! Справка о болезни могла еще пригодиться, а вот пропуск… Идти по нему можно было только в глубь территории от своих войск — а значит, что от него толку, когда надо в обратную сторону. Но обратный путь заданием не предусматривался: Мурашову, установив связь с явками, надлежало осесть в надежном месте, наладить сбор информации и отправлять ее через Гришину рацию. Такова была суть. Такова была…
— Что же ты станешь делать? — сипло трубил старый цыган. — Здесь нельзя жить, это наше место, а ты опасный человек. Как-то здесь ночевали недолго два венгра, а потом их поймали в городе и повесили на базаре. А если бы поймали здесь? Тогда задержали бы и увели в тюрьму и меня, и мою семью.
— Трусишь, мош. Неужели никто не знает, что вы тут живете? Нет, не верю.
— Знает полицейский надзиратель и не трогает, и не дает трогать другим. Иногда он просит что-нибудь сделать у него в доме, старуха моет полы, помогает в саду.
— Только-то? Может, еще чем-нибудь помогаешь?
Цыган сгорбился, начал раскуривать трубку. «Постукивает старичина, — подумал Мурашов. — Крутится, видать, по разным местам, а после доносит. Спасается по-своему. И тех венгров не без его участия похватали».
И тут в голову внезапно ударила горькая мысль: ведь у него нет ненависти к старому двуличному цыгану, готовому предать всех и вся, лишь бы только выжил он и его семья. На фронте он смотрел бы на деда совсем другими глазами. А вот теперь не стреляют, не рвутся кругом снаряды, тихое небо висит сверху, — и не поднимается рука на этого человека. Сидит, слушает его. Видно, тут другой мир, он перевернулся, как в песочных часах. Все по-другому. Нет жесткой разницы, преграды между добрым и злым, плохим и хорошим, белым и черным, как на передовой. Попробуй, скажи, что плохо, что хорошо, когда ты сидишь и жрешь мамалыгу, полученную из рук цыгана, на совести у которого наверняка не одна подло загубленная жизнь, а сам ты, находясь здесь, не сделал ничего для исполнения своей солдатской задачи.
— Ты меня, мош, не закладывай, — сказал он, — я тихий. И ты учти: если меня возьмут, тебя не станет в тот же день. Пожалей своих, мош.
Летом 1938 года с заставы на западной границе, где Мурашов проходил срочную службу, отправили его поступать в пограничное училище. Он прожил в летнем лагере около недели, когда его вызвал вдруг начальник приемной комиссии.
— Слушай, помкомвзвод, — сказал он. — Ты знаешь, куда поступаешь?
— Так точно, знаю. В пограничное училище.
— Да-да. У нас особые требования. А у тебя, — он стукнул пальцем по папке, — тетка, репрессирована. Почему не сообщил сразу? На заставе об этом знают?
— У нас спрашивали о таких родственниках. Я все сказал. И мне ответили, что это не препятствие. Ведь вы неправильно сейчас сказали: это мужа у тетки арестовали, инженера-конструктора. А тетка с ребятами живет, где и жила. Мается, конечно… Муж тетки — довольно ведь дальняя родня, верно?
— Хмм… Ты сам с ними поддерживал отношения?
— Ну, чтобы уж близко — не скажу…
Мурашов и правда редко ходил в гости к тетке Симе — стеснялся худой одежды, чувствовал себя чужим в чинной, благообразной, ухоженной обстановке Дома специалистов после барачных шума и вольницы. Тетка тоже редко бывала у них, снисходительно жалела сестру, мать Мурашова, за ее тяжелую жизнь с лиховатым, не чурающимся рюмочки мурашовским отцом. А сам отец вообще не бывал в инженерской семье никогда. «А-а, родня… дерьмо!» — говорил он.
— Так вот, помкомвзвод: ты в наше училище не подходишь. У нас особые требования, понимаешь?
Мурашов подумал, вздохнул, развел руками:
— Ну, что делать? Хоть в городе побывал, на других людей глянул, отвлекся немножко. А все-таки без своих ребят скучно. Поеду обратно на заставу, буду дослуживать. Я ведь, товарищ полковой комиссар, не очень-то и просился. Приехал из отряда командир, спрашивает: «Не желаешь учиться на командира-пограничника? Ты из рабочих, комсомолец, старослужащий, помкомвзвод — подходишь по всем статьям». Что же, думаю, не поехать. А статьи-то, оказывается, вовсе и не все… Ну, не получилось — беды особенной нет. На гражданке тоже люди нужны.
— Конечно, нужны… Только найдешь ли ты там дело по себе? У тебя ведь девять классов — значит, до института еще год учиться надо. А обратно на завод идти — что же с таким образованием кувалдой-то махать? Ты ведь кузнец?
— Я работал на механическом молоте, там кувалдами не машут. Но вообще я собирался на лекальщика учиться, мне один из них говорил, что у меня в пальцах чутье есть.
— А если в техникум?
— Что я там, с пацанами? Да и кормить-одевать меня некому, так что будем считать — отучился…
— Что-то ни то, ни се у тебя, — гнул свое комиссар. — Почему девять классов? Ни семь, ни десять. Запалу не хватило, что ли?
— Мать за уши тащила, — нехотя объяснил Мурашов. — У ней в семье все образованные. А у меня в девятом классе уже борода росла. Считайте, девяти в школу пошел, да два года сидел в шестом. Девятнадцать лет, а я все в штанах с заплатами бегаю! Сверстники-то мои работали давно, одевались…
— Но-но! — прозвучал строгий голос. — Мать тебе добра хотела, а ты, понимаешь… Не кончил, значит? А причина, все-таки?
— Да отец наш опять забуробил, нашел какую-то… Матери тогда не до меня стало, я и ушел потихоньку из школы. Когда на завод устроился, только тогда ей сказал.