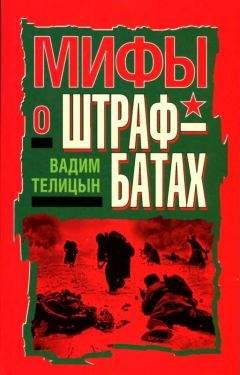И тут я решил, что самое лучшее — это разговорить моего опасного соседа. Куда труднее посягнуть на человека, если ты вступил с ним хотя бы в словесный контакт.
— Вы были в бою? — обратился я к темной глыбе.
— Какие сейчас бои? — донеслось как из погреба.
— Но вы же ранены?
— За «языком» ходил.
— Удачно?
— Фельдфебеля взяли.
— Как вас ранило?
— Фриц заорал. Открыли огонь. Меня срезало. — Он чуть оживился от воспоминаний. — Мой напарник сразу фрица в охапку — и драпа… Ну, наши дали отсечный огонь… Вытащили меня.
— Почему не ходатайствовали о снятии наказания?
— Рано…
— Ничего не рано! С вас и судимость снимут.
— Да… как же так? — произнес он растерянно и впервые повернулся ко мне.
Ему было жарко, он досадливым движением откинул высокий, душный воротник На меня глядело исхудалое, цыганистое, темное от солнца и ветра, совсем юношеское лицо. И, уже не испытывая ничего, кроме сочувствия и живой симпатии к этому настрадавшемуся человеку, я с удовольствием сообщил ему, что еду в штрафроту как раз для разбора таких вот дел.
— А в звании восстановят? — тихо спросил Соловьев. Как это характерно для него! Другому — лишь бы из штрафняка вырваться, а Соловьеву главное — шпалу вернуть. Потеря звания ощущалась им куда болезненнее, нежели участь штрафника. Ему, кадровому офицеру, оказаться в положении рядового — было нестерпимо. Если б его отправили командиром не то что в штрафроту, а в роту смертников, он бы и бровью не повел, но трибунал унизил его, и с этим он не мог примириться.
Соловьев задал мне трудный вопрос. Трибунал может лишать звания, но ему не дано восстанавливать в звании. И все же я решил пойти на сознательную ошибку и вернуть Соловьеву шпалу. Я не сомневался, что дело выгорит; не разжалуют же вторично человека, искупившего свою вину подвигом и кровью. Забегая вперед, скажу: мой смелый ход удался — из обвинительного заключения был задним числом изъят пункт о разжаловании, а мне за превышение власти объявлен выговор без занесения в личное дело.
— Да, — сказал я твердо, — вас восстановят в звании».
Александр Твардовский разместил штрафбат даже на том свете в опубликованной в 60-е годы поэме «Теркин на том свете»:
«Все ты шутки шутишь, брат,
По своей ухватке.
Фронта нет, да есть штрафбат,
Органы в порядке».[14]
У поэта-фронтовика Александра Межирова в стихотворении «Частый зуммер» тоже есть такие строки:
«Как вдруг из-под земли
Ударил по земле
Незасеченный дзот, —
И страшно стало мне,
Что нам не уползти
От этого огня,
А коль останусь цел, —
Тогда в штрафбат меня».[15]
Но наиболее подробно штрафные подразделения в советской литературе описаны двумя авторами — Анатолием Ивановым и Вячеславом Кондратьевым.
Роман Анатолия Иванова «Вечный зов», по которому был поставлен очень популярный в свое время телесериал, содержит чрезвычайно подробное описание штрафной роты.
Показано принципиально важное деление личного состава на постоянный и переменный состав. «Постоянный состав, товарищ подполковник, — это офицеры и сержанты роты. Мы с Лыковым, командиры взводов, помпохоз, старшина роты, медицинский персонал… Всего человек около тридцати, — ровно докладывал Кошкин, опять же нисколько не удивляясь вопросу подполковника. Голос командира роты то отчетливо доходил до Алейникова, то пропадал куда-то, проваливался. — А остальные — переменный, значит, штрафники, заключенные. У нас дело ведь такое: кровью смоет человек преступление — снимаем судимость, отправляем в обычные войска. А в роту поступают новые. Потому и переменный называется»[16] — объясняет командир сто сорок третьей отдельной армейской штрафной роты капитан Кошкин начальнику штаба двести пятнадцатой стрелковой дивизии, которой временно придана рота, подполковнику Демьянову устройство своего очень непростого подразделения.
«Заметив двух офицеров, бойцы немного умолкали, с каким-то интересом и любопытством провожали взглядами Кошкина и Алейникова. Попадавшиеся навстречу солдаты вытягивались и отдавали честь по всем правилам. А это уже говорило о многом.
— Чувствуется, уважают тебя, — сказал Алейников.
— Ага, — ответил не оборачиваясь Кошкин. — Под Валуйками на ночных тактических занятиях дважды в меня стреляли…
— Ну что у тебя? — спросил Кошкин. — Это начальник нашей санчасти.
— Палатки развернули, Данила Иванович. Двенадцать санинструкторов прибыло из запасного полка… Ничего, завтра мы справимся. А на чем тяжелораненых будем в армейский госпиталь увозить? — Начальник санчасти говорил это, пыхтя и отдуваясь. — Я дал заявки в дивизию и армию. Подполковник Демьянов говорит, что у них свои люди умирают, не могут вывезти. Не хватало, говорит, чтоб еще штрафников каких-то… А штрафники что же, не люди? И в штабе армии не обнадежили.
— Ладно. Сейчас пообедаю и займусь всеми делами… «Мыльников» много?
— Четверо, Данила Иванович. Двое из третьего взвода, по одному из четвертого и шестого.
— Сволочи… — И повернулся к Алейникову: — Мыло глотают некоторые умельцы перед боем. От этого прямая кишка выпадает — и месяц госпиталя. Судить подлецов!
— Да оформим, — сказал начальник санчасти вяло.
— Ладно, иди.
Лейтенант-медик ушел, Кошкин долго ковырялся в тарелке, потом бросил вилку.
— До чего только не додумаются! Вот, даже мыло едят… Смердят на земле, а жить тоже охота…»[17]
Очень доходчиво автор романа показал, что означало присутствие в штрафных ротах уголовников. Никакого романтического восторга «уважаемые воры» у него не вызывают. Скорее наоборот — вызывают они искреннее омерзение. Штрафник Зубов рассказывает: «Был тогда в роте штрафник Мишка Крайзер по кличке Горилла. И по виду горилла. В зоопарке я только видел таких в железных клетках. Страшный человек, во всем преступном мире известный. Я против него птичка-синичка. Он и был верховным в роте… Такие дела творил! И на людей в карты играл… Прошлой весной командира своего взвода проиграл и в тот же вечер шею финкой просадил. Нож он бросал, сволочь, на тридцать метров точно в яблочко. Назначили другого командира — он и того проиграл… Мы под Валуйками долго стояли, и Горилла со своими телохранителями — были у него такие — где-то трех женщин поймали в степи. Одна даже совсем девчонка, лет, может, пятнадцати-шестнадцати. Спрятали их в овраге, земляную дыру специально вырыли, охрану свою поставили… Ну, и, сами понимаете… Кошкин потом узнал. Не от меня только. От кого — не знаю. И всю обойму в Гориллу вылупил. Зверь это был, не человек. Кошкин стреляет, садит пули ему в спину, в затылок, в голову, а Горилла пытается с земли подняться. Хрипит, землю пальцами пашет и на колени встает, встает… Мы так и думали — встанет во весь рост и двинется на Кошкина. Нет, рухнул».[18]
Прочитаешь этакое, и становится понятно: кто умел и хотел писать горькую правду о Великой Отечественной — тот это делал задолго до пришествия Михаила Горбачева с его перестройкой и новым мышлением. Анатолий Иванов умел и хотел. Ну почему ему советская цензура не мешала вот такое писать: «Кошкин усмехнулся:
— У нас ведь так: один бой — и я остаюсь без списочного состава. С остатками — кого пуля или осколок не тронули — отходим на доукомплектовку. Остаток бывает, как правило, чисто символический.
— Да это понятно, — сказал Алейников.
— Освобождаем иногда и таких, которые в бою и царапины не получили, но отличились, проявили отвагу и бесстрашие. Но трибуналы на это идут неохотно».[19]
В повести Кондратьева «Встречи на Сретенке» один из героев попадает в штрафной батальон.
Штрафникам было приказано взять деревню, которую обычные части безуспешно штурмовали два месяца, устилая землю трупами. И тогда один из штрафников предложил командиру штрафного батальона принципиально изменить схему атаки, сославшись на уже имеющийся у него опыт решения похожей задачи: «Мы… решились на такую операцию: к концу ночи вывести батальон на исходные позиции и, пока темно, проползти, сколько удастся, а потом в атаку, причем молча, без всяких «ура» и без перебежек. С ходу пробежать остаток поля, несмотря ни на какой огонь…
— Получилось? — перебил комбат.
— Получилось. И потерь было мало. Немцы очнулись, когда мы были уже на полпути. Бежали быстро, они не успевали менять минометные прицелы. Все поле только бегом! Полагаю, раз такое могли обыкновенные солдаты, то мы — офицерский батальон (выделено мной, — Авт.) — тем более».[20] Как мы видим, у Кондратьева, так же как и в воспоминаниях Пыльцына, штрафбат — офицерский.