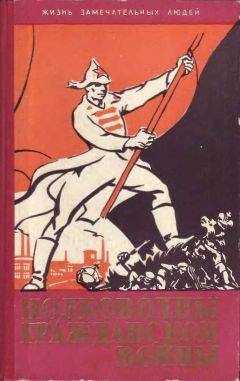Бой затянулся. Бронепоезд не сдавался и отчаянно метал в разные стороны красные языки пламени. Наступила ночь, и пламя освещало землю далеко вокруг бронепоезда. В этом зареве было отчетливо видно, как время от времени из бронепоезда выскакивали солдаты и тут же падали, сраженные нашими пулями.
Наши пушки успели хорошо пристреляться и снаряд за снарядом направляли по железнодорожному полотну, по бронепоезду, который все еще огрызался. Цепи противника перешли в атаку, но их встретили в штыки и разгромили, заставив отойти с тяжелыми потерями.
Вдруг ночную тьму озарили громадные столбы пламени, и по лесу покатились звуки непрерывных взрывов.
Видимо, один из снарядов попал в вагон с боеприпасами. Долго еще с грохотом и воем взрывались гранаты и снаряды. Отдельные взрывы сливались в один общий грохот, все кругом гудело и стонало. Когда грохот стал наконец затихать, языки пламени еще стремительнее взвились вверх и высоко поднялось громадное зарево пожара, будто извещая весь мир о кострах революции, зажженных на тихих полях Латвии.
Теперь сопротивление белых было бессмысленно. Изредка из бронепоезда еще раздавались отдельные запоздалые выстрелы. Но вот в отблеске пламени заметался на нем белый флаг. Неприятно запахло гарью.
Первым на паровоз бронепоезда прыгнул Яник Кал-нынь. Перед топкой лежали убитые осколками гранат машинист и какой-то офицер. Калнынь понял: машиниста силой принудили вести этот поезд смерти! Он осмотрел паровоз и увидел, что тот почти не пострадал. Топка еще не успела остыть, и Калнынь начал подбрасывать в нее дрова. Напрягая последние силы, он пытался поднять пар. Скорее, скорее привести паровоз в действие. Ведь теперь он наш!
И вот окрестности огласились громким гудком паровоза, радостным, победоносным. Стрелки были взволнованы до глубины души.
Вскоре бронепоезд двинулся в сторону станции. Но долго еще пламя озаряло ночное небо и огненные языки лизали снег и придорожные кусты. Потом на поле боя наступила тишина. Где-то вдали прогремели последние выстрелы, посланные вдогонку отступавшим белым. Но вот и они смолкли. Наступила тишина.
Утром на станции собралось много народу посмотреть на отнятый у врага бронепоезд. Все смеялись над хвастливыми лозунгами «Смерть большевикам», написанными на вагонах, и дивились невиданным рисункам — черепу с двумя скрещенными костями.
Подойдя к обгоревшим вагонам, люди с содроганием увидели на почерневших платформах, между искривленными стержнями, обуглившиеся трупы, разбросанные в самых диковинных позах. Это были белогвардейцы: оглушенные выстрелами и раненные, они не успели спрыгнуть с поезда и сгорели.
— Господи, страсти какие! промолвила старуха в сером платке, утирая глаза. Кто знает, стало ли ей жаль погибших или она вспомнила о сыне, убитом под Борисоглебском. — Неужели же нельзя без этого?
— Нет, нельзя, — ответил ей Антон Нейланд, стоявший у поезда. Он хотел что-то сказать ей, но, вспомнив, что прошлой ночью в бою погиб его лучший друг Алфред Микелсон, промолчал. Потом посмотрел на старую женщину и еще раз твердо сказал: — Нельзя!
При форсировании Днепра погибли десятки латышских стрелков. Их сразили белогвардейские пули, и молодые жизни поглотила пучина, пустив по голубой воде красные разводы.
Когда стихли бои, рыбаки выловили в плавнях трупы. Похоронили их на берегу под акациями, вблизи станицы Казацкой. Окрестные жители до сих пор это место зовут «Латышской могилой».
Весной, когда цветет акация и над степью плывет ее медвяный запах, там в лад со звонкими ветрами звучат песни. Поет молодежь, радуясь солнечным утрам, в которых столько бодрости, жизни, веселья. Звенят песни по берегам свободного Днепра, пышно цветет акация на могиле латышских стрелков. А на левом берегу, как раз напротив, стоит монастырь. В нем устроен свиноводческий совхоз «Победа революции». Директором этого хозяйства был недавно назначен бывший латышский стрелок Джек Эйланд.
Еще издали, с палубы парохода, Эйланд приметил монастырскую колокольню, как и прежде гордо возвышавшуюся на крутом берегу, далеко видимую отовсюду. Эйланд люто ненавидел эту колокольню еще с той поры, когда ему пришлось изрядно поторчать на ее верхотуре по соседству с колоколами. Пока шли бои, те хранили молчание. И только когда осколок снаряда или шальная пуля ударялись об их позеленевшие бока, колокола, точно раненные, глухо стонали. И монастырские монахи, словно крысы, затаившиеся в подвалах, испуганно крестились и тарабарили молитвы.
Колокольня была хорошим наблюдательным пунктом. Оттуда просматривалась вся окрестность, чуть ли не до
самого моря. С макушки колокольни как на ладони были видны передвижения противника. С колокольни можно было корректировать огонь артиллерии, беспощадно громившей сосредоточения вражеских войск. _
Потому-то колокольня постоянно находилась под обстрелом, независимо от того, в чьих руках она была. Но колокольня, всем на зло, продолжала надменно возвышаться над степью. Она пестрела от выбоин, снаряды дробили ее толстые стены, и все-таки ни перед кем не склонила она головы. И местные жители невольно прониклись благоговением к монастырю, который, казалось, сам бог бережет.
Когда Эйланд приехал в совхоз, он взглянул на колокольню, как на заклятого врага.
Из монастыря давно прогнали монахов, в церкви устроили склад и амбар. В зимнем помещении открыли школу, клуб, в кельях расселились рабочие.
От дождей и ветров ржавели колокола, теперь уже навсегда онемевшие. Не слышно более монашьей тарабарщины, не слышно причитаний о вечном блаженстве. Свиньи ели и пили из мраморных кормушек — приспособили белые надмогильные крышки, под которыми догнивали кости окрестных помещиков и попов. Кресты и памятники со стершимися надписями тоже пошли в дело. Монастырское кладбище постепенно выравнивалось, земля освобождалась от давивших ее камней. И только громада колокольни высилась гордо, надменно и вызывающе, затаив в себе память о вчерашнем дне.
Джек Эйланд получил указания расширить хозяйство. Трест выделял немалые средства на строительные нужды, предлагая необходимые материалы разыскать на месте.
— Но из чего же будем строить свинарники? Из песка не выстроишь. Плавни тоже не подходят, — рассуждали рабочие совхоза, ознакомившись с новым заданием.
«В самом деле, где взять материалы, если в степи последний камень подобран, если в парке каждое дерево на счету»,— размышлял Эйланд. Перебрав все возможные варианты, он наконец нашел удивительно простой выход.
В колокольне уйма строительного материала, и торчит она бельмом на глазу, совершенно ненужной. Почему бы
не взорвать ее, не использовать камень в строительстве? Предложение показалось настолько очевидным и естественным, что все подивились, как это раньше никто не додумался.
Уже через несколько дней приступили к сносу. Тем утром Днепр беспокойно катил свои воды, а по затопленным плавням метался низкий порывистый ветер. На берегу угрюмо шумел парк. Ночью прошел дождь, над степью все еще плутали всклокоченные облака, напоминая перепуганных подранков.
Вокруг колокольни собрались чуть ли не все рабочие совхоза. Каждому хотелось посмотреть, как станут крест снимать.
Действительно, добраться до него было не просто. Снаряды раскроили, раскрошили стены, уничтожив целый пролет лестницы, тем самым отрезав путь к верхушке колокольни. До сих пор туда никто не забирался, поскольку это было связано с большим риском.
И вот теперь Эйланд с двумя рабочими пытался залезть на самый верх. Чтобы восстановить путь, проделанный некогда с винтовкой за плечами, пришлось втащить лестницу, привязать ее веревками. Нелегкое дело — как раз в этом месте колокольня была разбита гораздо больше, чем это казалось снизу. Только к полудню удалось подобраться к верхушке колокольни, где крепилось основание креста.
Эйланд надавил головой на тяжелую крышку люка, открывавшего доступ наверх. Как и тем жарким летом, он надеялся увидеть узкие оконца, сквозь которые так хорошо видна окрестность, надеялся услышать свист степного ветра в выемках стен, испещренных пулями.