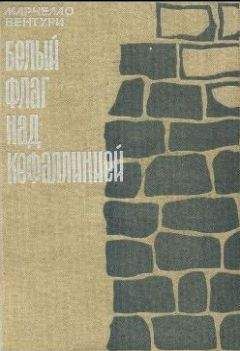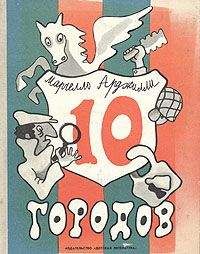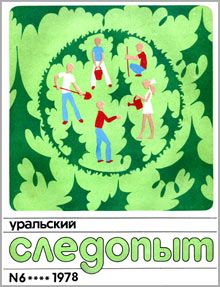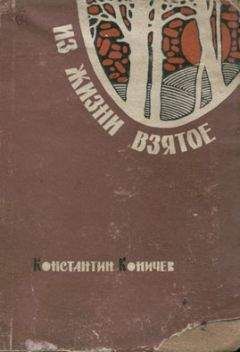Здесь же с того дня, когда флотилия ушла в Бриндизи, море становилось все пустыннее, все теснее обступало Кефаллинию; это море перехватывало дыхание, на него не надо смотреть, иначе задохнуться можно.
Альдо Пульизи вновь перечитал листовку; читали и его артиллеристы, они посмеивались и шутили, чтобы скрыть страх. Капитан смотрел на своих солдат; теперь в них не было ничего крестьянского, они казались каким-то сплавом рабочих-механиков и первобытных воителей, сражающихся камнями и копьями, а не пушками. Притворно насмехаясь над немецкими угрозами, они явно ждали его слов; в их расширенных зрачках маячил призрак капитуляции, покорности, вспыхивал, но тут же гас огонек отчаянной, неосуществимой надежды.
Альдо Пульизи понимал все это; он читал в их глазах так же ясно, как и в своих: то были одинаковые надежды, одинаковая покорность.
Глядя прямо перед собой на гладкую равнину моря, капитан скомкал листовку в кулаке.
— Вы что думаете, — сказал он, — они нас в живых оставят?
Джераче покачал головой: он думал о ребятах с острова Святой Мавры, о своей гречанке, которую не видел уже давно. Сколько дней? Как она там одна, без его сильных рук, помогавших ей обрабатывать клочок земли? Он поискал глазами домик среди холмов, зная, однако, что отсюда его не увидишь. Если б не эта война с немцами, думал он, сейчас бы мы виноград собирали. Он вспомнил коринфский виноград, продолговатый, желтый, как мед, касавшийся земли своими короткими низкими лозами. Вот и у него дома, в Италии, сейчас время сбора винограда…
Нет, никто не верил немецким листовкам, сыпавшимся с неба. Они готовили еще одну ловушку — солдаты понимали это; единственный путь к спасению — сражаться, побить их, разоружить гарнизон в Ликсури. Продолжать драться. Несмотря на налеты и бомбежки. Кто знает, с минуты на минуту в море может появиться англо-американская или итальянская военная флотилия. Ведь существуют же еще где-то боевые военные корабли итальянского королевского флота! Радиостанция Бриндизи призывая дивизию продолжать борьбу, обращалась к командирам и солдатам, восхваляла их боевой дух; не могли же правительство Бадольо и союзники бросить их вот так, посреди моря. Достаточно было бы небольшой эскадры, чтобы изменить ход событий; хватило бы нескольких самолетов. Или Кефаллиния слишком мала, слишком незначительна для их стратегических планов?
Да, это слишком маленький остров, абсолютно ничего не значащий в стратегическом отношении. Генерал снова стал рассматривать его на карте, висящей на стене. Кефаллиния. Чуть побольше скалы, далекая от всех фронтов, от итальянского фронта, от всех морских трасс; кораблю надо идти сюда специальным рейсом. Кефаллиния, увиденная здесь, на карте, глазами генерала, по-солдатски, как он всегда на нее смотрел, была лишь точкой в море, одной из многих точек, образующих дугу Ионического архипелага. Архипелаг и остров, абсолютно бесполезные для оперативных целей. И в Бриндизи, и в союзных штабах Кефаллинию могут рассматривать только так. Но он, генерал, при желании мог видеть ее из этого окна иной — более живой и реальной, в слитности знакомых лиц, имен, голосов.
Но какая польза была от Кефаллинии союзникам, которые своей высадкой в Италии уже отрезали Балканы?
Он еще раз устало задал себе этот вопрос, разглядывая этот маленький гористый остров на карте, где не значилось ни одного солдатского имени, где не видно было ни одного лица, не слышно ничьих голосов.
Бесполезный остров, несомненно; он хорошо знал это.
Он спросил себя, где сейчас младший лейтенант флота, отплывший сегодня ночью на катере Красного Креста, — последнем катере, остававшемся в Аргостолионе. Удастся ли ему невредимым пересечь Отрантский пролив и, обманув бдительность немецких воздушных разведчиков, добраться до Бриндизи? Он должен объяснить, как обстоят дела на Кефаллинии, рассказать о трагической судьбе дивизии. Но послужит ли это чему-нибудь? — спросил себя генерал.
Он облокотился на подоконник и посмотрел на последние листовки, которые ветер забросил на дома без кровель, завихрил вокруг пальм на площади Валианос среди развалин в столбе жаркой пыли лета. Этого длинного средиземноморского лета, которое никак не хотело умирать.
Сторонник Бадольо, подумал он. Путь на родину… немецкие собратья… Слова, слова, лишенные смысла, либо со зловещим смыслом; слова, употребленные для искажения истины. Вот как бывает, подумал он; за какие-то сутки истина может стать полной противоположностью того, чем она была накануне.
Но так случается с частной, относительной истиной, утешил он себя, с истиной двух враждующих станов, которая меняется, когда изменяет фортуна; однако существует истина, высшая, неизменная, стоящая над страстями и силой оружия, над жизнью и смертью; истина, которую не изменить ни страстями, ни оружием.
Такова была его истина; и ее надо было ревниво охранять, как источник силы и надежды.
Он снял со своей груди немецкий «Железный крест».
Существовала истина и другого рода — преходящая, мелкая, связанная с непосредственным ходом событий; а именно: если дивизия сдастся в плен, никто из них не уйдет от смерти.
Взгляд его, минуя площадь, устремился на залив и еще дальше — на море. Море было спокойным, темным под яркими лучами солнца — и абсолютно пустынным.
…В этот момент, думал генерал, младший лейтенант плывет на своем катере Красного Креста по этой спокойной глади, почти не нарушая ее молчания и неподвижности.
Море, думал он, это стихия мира, а не войны.
…А может быть, катер, замеченный немецкими разведывательными самолетами, уже пущен ко дну?
Море, думал генерал, может стать огромной гробницей. Но оно может превратиться в большую широкую дорогу, беспредельную дорогу спасения, если только чудом покажутся на горизонте трубы двух-трех военных кораблей.
Море оказалось легкой беспрепятственной дорогой для двух горно-стрелковых батальонов 1-й немецкой альпийской дивизии, которые в ночь с 18 на 19 высадились в бухте Кириаки под командованием майора фон Хиршфельда. По правильному расчету подполковника Ганса Барге, гарнизону Ликсури даже при поддержке авиации не так-то легко удалось бы подавить сопротивление итальянской дивизии. Чтобы провести операцию по уничтожению противника, нужно было подбросить подкрепление — отборные части, специально подготовленные для действий в гористой местности.
Горные стрелки майора фон Хиршфельда прибыли. Эта ночь тоже была лунной; освещенные воды бухты Кириаки мягко плескались у бортов; сосны на холмах, озаренные луной, казалось, спускались к морю, колыхались вместе с ним.
Катера причалили к берегу; слова команды произносились вполголоса, но звучали четко, почти звенели в кристальном воздухе лунной ночи. Отчетливо слышались сухие удары бортов о камень, шаги первых горных стрелков, прыгнувших на землю, нестройные шаги батальона, который подтягивался к подножию горы; затем шаги обоих батальонов — все еще беспорядочные, скорее топот ног при построении; приглушенное бряцание оружия; смутные голоса, дыхание двух батальонов, слившееся с дыханием ночи.
Ночь укрыла сосны, горы, оружие, горных стрелков; моторы на катерах стихли. Воды бухты, потревоженные высадкой, вновь стали неподвижной гладью. Но воздух утратил аромат леса, влажной травы и земли, утратил ночной запах камня, нагретого солнцем и сохраняющего тепло даже в прохладе. Воздух, искрившийся в лунном свете над амфитеатром бухты Кириаки, постепенно вбирал в себя тяжелый дух двух батальонов.
Отряд, выстроившийся под горой, вздрогнул и двинулся, вытянувшись в колонну, по белой, озаренной луной, проезжей дороге; батальоны направлялись к мягкой волнистой линии гор Кефаллинии — гор, составлявших природу, стихию этого острова. Без песен, без слов, без команды горные стрелки маршировали к намеченным позициям, придавая этой ночи свой ритм.
Не ритм, присущий долинам и дальним горам в такие же ночи, при такой же луне, но молчаливый и жесткий ритм войны, который придавал солдатам сходство с самоходной машиной — машиной смерти.
Ощущение происходящего как уже однажды пережитого, как второго существования, повторения когда-то совершенных жестов и поступков снова пришло к Карлу Риттеру в утро наступления. В последние месяцы войны это случалось с ним все чаще, а может быть, такое чувство было у него всегда — сейчас он не мог бы ответить на это даже себе самому, да и не испытывал никакого желания задаваться таким вопросом. Было так, словно война для него длилась с незапамятных времен, за чертою памяти; словно он уже воевал в некоем мире, предшествовавшем его детству.
Повторялись не просто внутренние ощущения, но и зримые факты, например, пейзаж, дом среди леса, женщина на обочине дороги, какая-нибудь улица, голос. Этого было достаточно для головокружительного возвращения в прошлое.