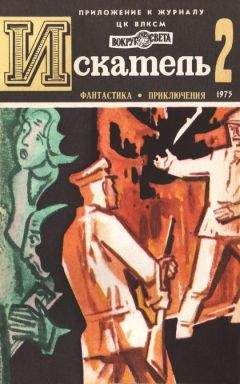— Пусть едет, куда хочет, — сказала Марийка решительным своим тоном и мотнула коротко стриженной головой. — А мне и здесь хорошо. Другого мужика, что ли, я себе не найду?
— Болтаешь, — поморщилась Саша.
— Ах ты правильная наша, — засмеялась Марийка. — Показательная…
С обеденным гудком поспешила Саша домой, на Аммермана, — Надю кормить, в школу отправлять. В третьем уже классе учится Надюша, и все во вторую смену, неудобно очень, да что ж поделаешь, если не хватает школьных помещений.
Прибежала, разожгла примус, поставила подогреть гороховый суп и голубцы, слепленные с вечера. Могла бы Надя и сама в свои десять с лишним лет разогреть еду, но уж очень Василий ее балует, не подпускает к плите, к огню. «У меня, говорит, детство было к коровьему хвосту привязано, и я хочу, говорит, чтоб моя дочь сроду нужды не знала».
— Мам, — вбежала Надя на кухню и учебник сует, — проверь, как я выучила. — Серьезно так смотрит серыми своими глазищами, русую косу на палец накручивает и читает наизусть: — «Опять я в деревне. Хожу на охоту, пишу мои вирши — живется легко…» Мам, а ты в книжку не смотришь!
— Я и так помню.
— Мам, а вирши, знаешь, что такое? Стихи!
— Читай дальше, знаю. И стой спокойно, я тебе чулки поправлю.
— «Вчера, утомленный ходьбой по болоту, забрел я в сарай и заснул глубоко…»
Ровно, без запинки читает Надя. Память хорошая. Глаза кверху, и головой слегка кивает, подчеркивая ударения. Умница, отметки в классе самые лучшие, учительница хвалит не нахвалится.
— «В них столько святой доброты!» — дочитала Надя. — Нам до сих пор задали. Мам, а что это — святая доброта?
— Доброта — это когда человек добрый, других жалеет. А святая — ну, так раньше говорили, если… — замялась Саша.
— Если что?
— Ну, если что-то очень большое.
— Почему же он тогда написал «святая доброта», а не «большая»?
— Ох, Надюша, садись кушать, в школу опоздаешь. Хлеб в шкафчике возьми… Как написал, так и написал, ему виднее было.
Сели друг против дружки, начали есть. По Надиным глазам видела Саша, что она раздумывает над услышанным. Вскинула голову Надя и говорит:
— А я знаю. Святые в церкви бывают, а теперь их нет. Да, мам?
— Верно, Надюша. До конца доедай, я тебе голубец положу.
Уже кончали обедать, когда пришла Лиза. Румяная с морозу, не снимая пальто и шапки, кинулась Надю целовать:
— Ух ты, моя сероглазая! Крыжовничек ты мой…
— Отойди, застудишь девочку, — отстранила ее Саша. — Быстренько одевайся, Надя. Портфель приготовила?
Пальтишко у Нади синее, суконное, на ватине — прошлой осенью справили. Шапочку красную купил как-то Василий в Ленинграде. Приятно смотреть на Надю.
— Мам, я за Олей забегу, вместе в школу пойдем! — Побежала, быстроногая, по коридору, крикнула еще: — Теть Лиза, крыжовничка зимой не бывает!
Со смехом дверью хлопнула.
Саша проворно помыла тарелки и тоже заторопилась уходить. Дверь в комнату Шумихиных была раскрыта, там Лиза стояла перед зеркалом — напевая, возилась с приколками, рыжеватую свою гриву закалывала.
— Ты чего так рано с работы? — спросила Саша.
— На работе сидеть — мозгами скорбеть, — звучным голосом ответила Лиза, не отвлекаясь от своего занятия.
— Совсем как Петенька твой заговорила. Там суп и голубцы — поешь.
— Не хочу, сестричка. Петя у себя на буксире накормил, перед тем как в Питер уехал.
— Опять уехал? Ничего у него не выйдет. Ну ладно, побежала я. Ты дома будешь?
— Дома. — С поднятыми к волосам руками повернула к ней Лиза статное, зеленым платьем обтянутое тело. — А что?
— Мы с Василием поздно придем, так ты Надю напои чаем, когда прибежит со школы.
Бегом — на завод. А мороз, кажется, отпускает. Опять будет оттепель с сырым западным ветром, с гололедицей. Не любила Саша оттепель. Скорей бы весна!
А Лиза-то, Лиза! Как не сиделось ей раньше дома, так и на работе теперь не сидится — нарвется ведь опять на неприятности… В кого она такая непутевая уродилась? Семь классов кончила, дальше учиться не захотела. Она, Саша, взяла ее к себе в деревообделочный, и вроде бы ладно пошло: руки у Лизы умнее головы оказались, — вдруг взбрыкнула: хочу в минные мастерские. Интересно ей, понимаешь ли, знать, что у торпеды внутри. Ладно, через знакомых людей устроили Лизу в мастерские ученицей. Опять же неплохо пошло. Способная она, легко схватывает.
Но было у нее на уме другое. Стала Лиза где-то пропадать по вечерам. В глазах будто огоньки праздничные зажглись, и в походке появилось что-то новое, вызывающее, и позвучнел голос. Вообще-то рано развилась Лиза — в свои семнадцать с небольшим лет была видная, бокастая, груди торчком.
Кронштадт — город маленький, тут ничего не скроешь. Сперва дошло до Саши, что в мастерских недовольны Лизой — то прогул у нее, то надерзит мастеру. Потом как-то под вечер, проходя мимо Дома флота, увидела Саша свою сестру, как она под руку с молодым лейтенантом прошла туда, — и почему-то запомнилось: из-под короткого платья в серо-зеленую полоску как-то бесстыдно белели толстенькие Лизины икры. Взяли они с матерью Лизу в оборот, да без толку. На предостережения матери Лиза знай себе твердила: не маленькая она и сама знает, как себя вести.
А месяца через два Лиза сделала аборт. Мать глаза себе выплакала. Жаловалась, что перед соседями стыдно, не хотела на люди показываться. Лиза ластилась к ней, утешала, обещала на мужское обольщение больше не попадаться. И верно, конец лета и почти всю осень сидела дома, в кино только с Сашей и Василием ходила. А тот лейтенант, командир торпедного катера, исчез. Лиза вспоминала его с доброй улыбкой, и глаза у нее туманились.
С осени перешла Лиза на работу в портовый шкиперский склад: надоело ей в торпедных чревах копаться. Работа теперь у нее была чистая, форменные бумажки заполнять и учитывать. И чистенький, выутюженный, сверкающий пуговицами и ботинками был непосредственный ее начальник — мичман Бийсябога.
Когда пришлось задуматься — снова выкидывать или рожать, — мичман не исчез, как тот лейтенант. Напротив, пришел домой, высказал неукоснительное намерение жениться на Лизе и жить дальше нормальной, как он выразился, семейной жизнью. Да так оно и было бы лучше всего. Только Лизе он вдруг сделался неприятен, ненавистен даже, — видеть она его больше не могла и слышать не хотела. На рвоту прямо-таки ее тянуло от него.
Беда была с Лизой.
Второй ее аборт доконал мать. Слегла от огорчений и проболела всю зиму сердцем, а мартовской ночью тихо, никого не разбудив криком или стоном, заснула навсегда. На похоронах Лиза плакала страшно, билась в истерике. Да что ж… она маму любила очень…
— Слишком ты добрая, Лизавета, — говорил Шумихин. — Не можешь людям отказывать.
Этот Шумихин Петр Маврикиевич появился почти два года назад — весной тридцать второго. В ту пору в квартире освободилась вторая комната, съехали ее жильцы — старый парусный мастер со старухой женой — к детям своим за Ладогу, на реку Оять. Василий захлопотал в райсовете, чтоб дали ему эту комнату. Верно, в тесноте Чернышевы жили — впятером в одной комнате, а как мать померла — вчетвером. Еще перед Надиным рождением отгородил Василий угол комнаты с окном, сам сколотил из досок загородку, заштукатурил, побелил. Но все равно — тесно, тесно было. И с Лизой неудобно, с ее поздними, за полночь, приходами. Имели Чернышевы-Варфоломеевы полное право на расширение жилплощади.
Но, как более нуждающийся, комнату получил Шумихин, капитан передового буксира типа «Ижорец». Всей командой притащили гигантский, обтянутый черной клеенкой диван со шкафчиками-башенками по сторонам. Потом Шумихин, самоуверенный дядька лет сорока, в кургузом пиджачке с черным галстуком, постучался к Чернышевым — стулья одолжить — и позвал соседей к себе обмыть новоселье. Стулья Василий дал, а пить с новым соседом, перехватившим комнату, не пошел. Но постепенно отношения наладились. Оказался Шумихин человеком не вредным. На передовом своем буксире он утюжил кронштадтские рейды и «Маркизову лужу», водил груженые баржи к фортам. Был мастер рассказывать морские байки, и, между прочим, рассказывал очень складно, будто на ходу раешник сочинял. Не составляло Шумихину труда срифмовать любое слово.
Лиза слушала его развесив уши и прыскала то и дело в ладошку. У Шумихина брови были косматые, свисающие на глаза, но видел он из-под этих занавесок хорошо и зорко. Не только привлекательную Лизину наружность разглядел, это-то в глаза бросалось, но и, можно сказать, разгадал сущность ее натуры. Еще до того как они поженились, забрал Лизу к себе в ОВСГ — отдел вспомогательных судов и гаваней, — устроил ее там на работу в диспетчерскую. Под строгим присмотром держал Лизу — и правильно делал, именно это и было ей нужно: твердая рука и зоркий глаз. Даже хорошо, что был он на пятнадцать лет старше Лизы. Уходя в море, наказывал ей: «Чтоб в четверть седьмого была дома» — и хмурил лихие брови. «Есть, капитан!» — отвечала Лиза с улыбочкой. «Помаду с губ сотри», — продолжал отдавать распоряжения Шумихин. И Лиза послушно стирала. Она побаивалась грозного своего мужа.