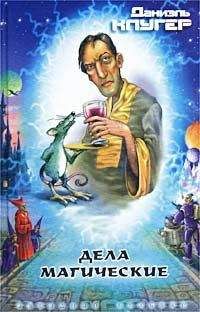— Но которое из двух? — спросил я. Признание Холберга в симуляции болезни меня, как ни странно, не задело, хотя в какой-то момент я почувствовал себя уязвленным, но чувство это так же мгновенно прошло, как и появилось.
— Разумеется, убийство Макса Ландау, поскольку смерть несчастного рабби Аврум-Гирша — часть этого дела, — ответил Холберг. — Еще вчера вечером, после вашего рассказа о поведении Ландау накануне убийства, я подумал, что, может быть, причина преступления никак не связана ни с морфином, ни с театральной дерзостью, ни с известными всему Брокенвальду конфликтами между супругами Ландау. Разумеется, стопроцентной уверенности у меня не было, я не мог полностью отметать все эти версии. Ну, поскольку вы уже знаете мои возражения относительно участия немцев или виновности господина Шефтеля, я не буду повторять их снова. Скажу лишь, что почти с самого начала я чувствовал, что причины преступления лежат в чем-то совсем ином. Вы рассказали мне вчера о странном поведении режиссера накануне убийства. Во-первых, в день, когда прибыл транспорт из Марселя и Берген-Бельзена. Во-вторых — в самый день убийства, когда он пришел к вам в медицинский блок с женой. Так?
— Так, — ответил я. — Но о чем, по-вашему, говорит это странное поведение?
— А вот смотрите, Вайсфельд, — Холберг откинулся на широкий лист фанеры, игравший роль спинки «кресла». — Судя по-вашему рассказу, господина Ландау удивила встреча с кем-то, пока нам неизвестным. Вернее, две встречи — на улице и в коридоре медблока. Я чувствовал, что убийство, последовавшее вслед за этими встречами, каким-то образом с ними связано. А встречи эти, в свою очередь, связаны с какими-то событиями прошлого, верно? Ведь тот человек только появился в Брокенвальде и никаких контактов с режиссером в гетто не имел. Значит, речь может идти только о прошлом. И вот тут-то я обратил внимание… Впрочем, нет, — оборвал он сам себя. — Об этом чуть позже. Пока же следует сказать, что чувство — это одно, а понимание — совсем другое. К сожалению, понимание пришло лишь сегодня утром, после того, как мы узнали об убийстве раввина Шейнерзона. Что могло связывать этих двух людей? Продукты, которыми снабжал учеников рабби Аврум-Гирша покойный Ландау? Признаться, в какой-то момент мне вдруг пришла в голову мысль абсурдная: некий безумец настолько ненавидит несчастных детишек-сирот, что убивает сначала их кормильца, а затем — наставника и опекуна…
— Не так уж абсурдно это выглядит, — заметил я. — В наше время происходят вещи куда более абсурдные.
— Да-да, разумеется, — ответил Холберг, — но ненависть к детям наверняка выразилась бы и в случаях агрессии против них самих. А подобных случаев — я узнавал, представьте себе! — подобных случаев не было. Но что же, все-таки, связывало этих людей? Что сделало их жертвами одного и того же убийцы? То, что тут действовал один и тот же убийца, сомнений не было. Так что связывало? — он задумчиво взглянул на меня. — Помните, что рассказал нам рабби о том, как обнаружил тело режиссера? Ему тогда показалось, что в коридоре кто-то был. Прятался в нише. А теперь предположим, — он поставил чашку на ящик, служивший столиком, и зябко потер руки, — предположим, что там, в коридоре, действительно находился убийца, который видел, как раввин вошел в гримерную, и как он из гримерной выбежал. Что получается? Преступник должен был счесть раввина опасным свидетелем. Во-первых, рабби мог что-то заметить в гримерной — в конце концов, убийца располагал очень коротким промежутком времени, и гарантии того, что не осталось никаких следов, у него не было. Во-вторых, рабби мог заметить его в коридоре — и он действительно заметил. Правда, всего лишь мелькнувшую тень, но откуда убийца мог об этом знать? — Холберг сделал небольшую паузу. — Словом, убийца имел основания избавиться от нежелательного свидетеля. Вы согласны, Вайсфельд?
Рассуждения моего друга выглядели вполне убедительными, но я сразу же заметил в них один изъян, на который тут же указал.
— В таком случае, — заметил я, — он должен был действовать очень быстро. Но между двумя убийствами прошло трое суток!
— А-а, вы тоже это заметили! — воскликнул Холберг. — Совершенно верно. И это ожидание говорит о том, что преступник не был уверен в том, что существование раввина ему угрожает. Должно было произойти что-то еще, что укрепило его подозрения, сделало их для него непреложной истиной. Спустя два дня после убийства Макса Ландау произошло нечто, окончательно убедившего преступника в том, что рабби Аврум-Гирш владеет опасной для него информацией. Что же произошло?
— Теряюсь в догадках, — пробормотал я. Холберг укоризненно посмотрел на меня и покачал головой.
— Вайсфельд, друг мой, ведь именно вы подсказали мне сегодня, что же произошло, — вкрадчиво сказал он. — Вспомните наш разговор после похорон. Вы сказали: «Смерть пришла оттуда, из прошлой жизни. Все дело в прошлом. В греховном прошлом. Именно там причина смерти господина Ландау», — он сделал паузу, потом медленно повторил: — Все — дело — в прошлом. Помните, Вайсфельд? Так вы сказали сегодня утром. Это были слова раввина Шейнерзона. Но что они должны означают? А, Вайсфельд? — Холберг прищурился. — Что эти слова означают?
— Я уже объяснял. Переселение душ, — ответил я. — Излюбленная тема рабби Шейнерзона. Он полагал, что наше пребывание здесь связано с тем, что у каждого из нас в прошлой жизни имелись деяния, подлежащие исправлению… — я немного напряг память. — Это так и называется «тиккун» — исправление.
— Вовсе нет, — возразил Холберг. — То есть, с вашей точки зрения, с точки зрения человека, ранее неоднократно обсуждавшего эту тему с покойным, речь шла о реинкарнации. Но если предположить, что слова раввина слышит кто-то другой, незнакомый… О чем говорил раввин с точки зрения этого, незнакомого? Подумайте, доктор. Неужели же непонятно? Впрочем, что я говорю — я ведь и сам не обратил на эти слова внимания, пока вы не напомнили их. Повторяю еще раз. Раввин сказал: «Все дело в прошлом. В греховном прошлом. Именно там причина смерти господина Ландау!»
— Но я о том и говорю… — начал было я и замолчал. До меня дошло, что имел в виду Холберг. — Боже мой… — пробормотал я.
— А-а, вы поняли! — воскликнул г-н Холберг и возбужденно сбросил с себя рогожу, которой все это время кутал ноги. — Слава Богу. Некто, слышавший эту фразу кроме нас, мог воспринять ее как намек на реальное прошлое, не на инкарнацию души убитого, а на прошлую связь в этой жизни убитого и убийцы. На то самое прошлое, о котором я уже говорил — в связи со странностями поведения господина Ландау накануне убийства. Вот в чем дело. И вот в чем причина убийства раввина. Преступник, их услыхавший, окончательно убедился, что рабби Аврум-Гирш для него опасен. И убил его — спустя несколько часов после этого, едва представилась такая возможность… Пойдем дальше. Кто слышал сказанное раввином? Вы, я, его ученики… А еще? Обратите внимание, Вайсфельд, звуки имеют обыкновение разноситься во все стороны. И значит, слова, произносимые в разговоре, слышат не только те, к кому они обращены, но и те, кто просто стоит неподалеку. Просто на него никто из собеседников не обращает внимания. Помните? Там стояли трое или четверо мужчин. И среди них — один новенький. Вы сами назвали его сегодня утром. Он прибыл с транспортом из Марселя, накануне убийства Макса Ландау.
— Верно, — взволнованно сказал я, — я даже разговаривал с ним на следующий день после прибытия! В день убийства!
— Мало того, — подхватил Холберг, — из ваших слов я сделал вывод, что он находился в коридоре медблока в тот самый момент, когда Ландау приводил к вам жену.
— Да-да, — пробормотал я, — да-да… — я словно воочию увидел эту сцену: режиссер, удивленно глядящий на небольшую группу вновь прибывших, центром которой являлся господин Мозес Леви, бывший партнер по теннису марсельского префекта полиции. — Да-да, он спросил: «Откуда эти пациенты?» Я ответил — «Из Франции». И он тогда засмеялся и сказал: «Из Франции? А из России, случайно, нет?» Вот…Точно так, Холберг, все так и было. И — знаете, сейчас я готов поклясться, что смотрел он в этот момент именно на господина Леви. И накануне он смотрел на людей из нового транспорта с таким же выражением лица… — я закрыл глаза, вызывая в памяти ту сцену — совсем недавнюю, но казавшуюся очень давно происшедшей. — Холберг, — сказал я, — а ведь там, возле кухни, напротив нас, шел тот же самый человек. С чемоданом в руке. И толкал перед собой маленькую тележку с двумя сумками, привязанными бельевой веревкой. Тот же самый человек.
— Он же стоял и рядом с раввином, когда тот произнес роковые, как оказалось, слова, — негромко произнес Холберг. — И вы его уже назвали. Утром. И сейчас тоже.
И я назвал это имя еще раз:
— Господин Леви. Мозес Леви. Но какое отношение он имел к режиссеру? Вы сказали — их что-то связывало в прошлом. Что-то, ставшее причиной убийства. Что именно?