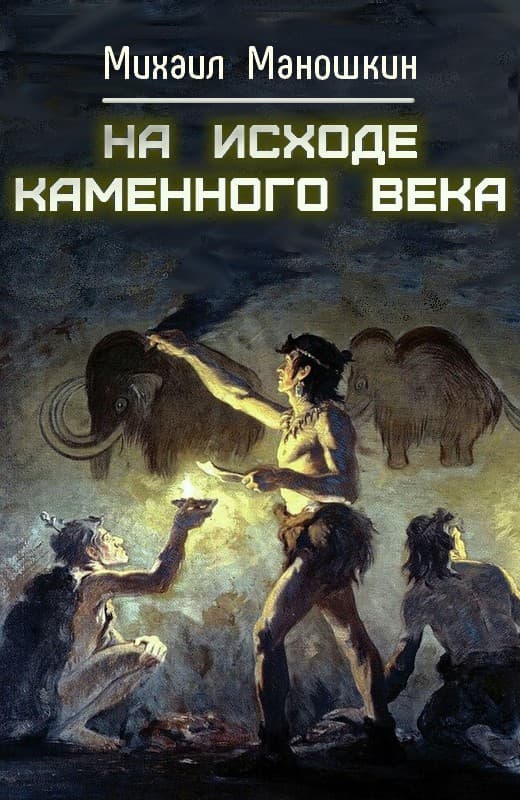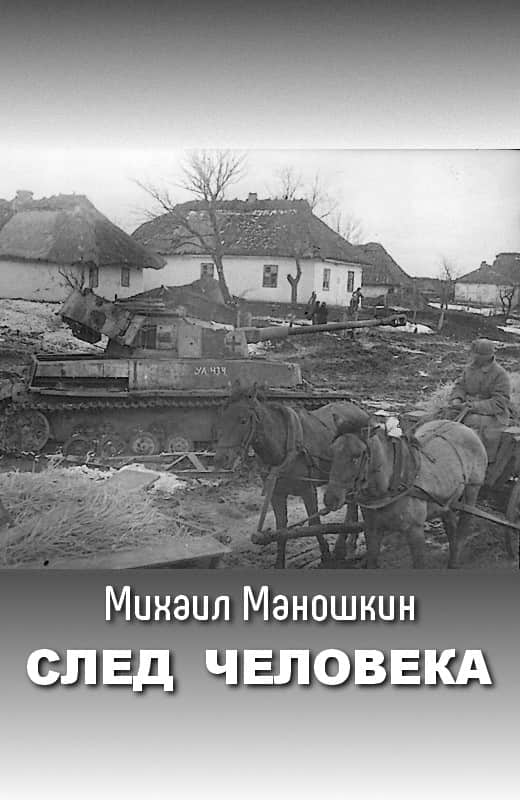удалось укрыться в овраге от танкового огня, но редакционную полуторку с пачкой свежеотпечатанных газет пришлось оставить. Он присоединился к окруженцам — для него начались трудные дни.
Чумичев принадлежал к распространенному типу должностных лиц, для которых главной реальностью являлись директивы, инструкции и, вообще, указания сверху. Практический опыт научил его избегать всякой инициативы и самостоятельности, но в пределах, указанных ему свыше, Чумичев был деятелен и находчив. Он ловко обходил острые углы страстей и противоречий, непринужденно обращался с фактами фронтовой хроники, деля их согласно «текущему моменту» на «важные» и «второстепенные». Первые он активно пропагандировал, вторые оценивал как «незаконные».
Если верить газетным материалам Чумичева, отступления наших войск к Волге вообще не было, как не было и других неудач, — а были лишь бои, в которых наши доблестные воины неизменно побеждали гитлеровцев. Сам Чумичев задавал тон газете своими передовицами, исполненными той же непробиваемой бодрости.
Попав в окружение, Чумичев лицом к лицу столкнулся с «второстепенным материалом» войны, который не полагалось давать в газете. В Чумичеве теперь вряд ли кто признал бы автора «железных» статей с их лейтмотивом «Трусов и паникеров — в штрафные роты!» Оказалось, сидеть и писать в редакции было гораздо безопаснее, чем лежать под пулеметным и орудийным огнем. Когда немцы прочесывали заросли, Чумичев суматошно метался взад-вперед, ища спасительную лазейку, чтобы избежать смерти или плена. То, что он делал в газете, не имело никакой связи с этим страшным миром войны, где человек руководствовался инстинктом самосохранения, где он ускользнул от автоматчиков — своим спасением он был обязан осмотрительному интендантскому сержанту, который сумел выбрать удачное направление и тем самым спас немало бойцов и командиров. О судьбе остальных можно было догадываться, но она здесь мало кого интересовала.
Разумеется, то, что делал и переживал сам Чумичев, относилось к «второстепенным» фактам и не подлежало разглашению. Когда он возвратится в редакцию, он расскажет о другом: о мужестве бойцов и командиров в тылу у врага. Само окружение станет «важным» материалом и начнет «работать» на главном направлении агитации…
Чумичев шел, то и дело напоминая прилепившимся к нему людям об осторожности: не шуметь, не разговаривать, не стрелять. Хотя такая тактика была небезупречна, он не намеревался что-либо менять в ней. Зачем брать на себя лишнюю ответственность? Дон рядом, а за Доном окруженцы разойдутся по своим частям. Ни к чему не обязывала его и встреча с незнакомым полковым комиссаром — мало ли теперь случайных встреч. Он повидал здесь и комбригов, и даже одного комдива — все они были озабочены собственной судьбой!..
— Присядем, Трифон Тимофеевич, — предложил Храпов. В эти дни полковой комиссар крепко вымотался: как-никак, а сорок седьмой пошел, непросто тянуться за молодежью. — Так вместе или врозь?
Подходили красноармейцы, усаживались вокруг, прислушивались к разговору.
— Главное — выйти к своим, а как — это уж частность. — Чумичев подумал о сержанте, которому был обязан спасением, и добавил: — пожалуй, мелкими группами лучше…
В предложении Чумичева не было ничего исключительного: командиры, выводя людей из вражеского окружения, поступали и так.
Чумичева поддержал лейтенант Фролов, он тоже был за мелкие группы.
— А как же раненые и станковые пулеметы? Бросить, что ли? — возразил старший лейтенант Савельев. — Каждой мелкой группе в отдельности труднее организовать переправу, чем всем вместе. Это я говорю как сапер.
Красноармейцы зашевелились, заговорили между собой. Встал Цыган.
— Я вот что скажу. Нас сначала рота была, потом пятнадцать осталось, а потом трое — мелкая группа. От каждого немца прятались. А теперь вот — полбатальона. Кто захочет в мелкую группу?
— Я, собственно, не настаиваю, — встревожился Чумичев. Это странное, невозможное в иных армейских условиях совещание раздражало его. — Я только говорю, что мелкими группами удобнее. Большой отряд легче обнаружить — разве это не так? Или нам нужны лишние жертвы?
Все ждали, что скажет полковой комиссар. Он оглядел собравшихся — наберется, пожалуй, роты три, — встал:
— Товарищи бойцы и командиры! До Дона несколько километров, но самых трудных. Не исключено, что придется прорываться с боем. Волею старшего по званию приказываю прекратить разговоры о мелких группах. Все бойцы и командиры входят в сводный отряд, командование которым беру на себя. Командирам скомплектовать подразделения и через двадцать минут доложить мне о выполнении приказа!
Через двадцать минут в отряде появились роты и взводы. В жесточайших условиях вражеского окружения командирская воля и извечно присущий русскому человеку перед лицом врага патриотизм цементировали здесь воинские подразделения.
— А меня — списали, товарищ полковой комиссар? — с вызовом, прикрывающим внутреннее напряжение, проговорил Фролов.
— Вот что, командир-одиночка, готовый предоставить бойцов их собственной участи, — разведка чтобы работала как часы. Второй раз не прощу.
Светлые, со стальным отливом глаза лейтенанта потеплели:
— Есть, товарищ полковой комиссар!
Повеселели и разведчики. Храпов улыбнулся: эти ребята постоят за своего лейтенанта. Ну а что они держались особняком — так служба у них такая.
Около полкового комиссара оставались Чумичев и два лейтенанта.
— Вот и штаб на месте. Не возражаете, Трифон Тимофеевич?
Храпов предложил всем по сигарете. Этот домашний тон успокоил Чумичева.
— Спасибо. А в чем будут заключаться мои обязанности? Я ведь…
— Да ведь и я… тоже. Лейтенант, для начала поищи-ка… воды.
Алексей Лобов проснулся от жары: солнце било в глаза. Он перебрался в тень, но уснуть больше не мог, хотелось пить. Он встал, побрел по лагерю.
Возле раненых калачиком свернулась девушка, положив под голову тощую санитарную сумку. Второй год Алешка на фронте, а санитарку вот так встретил впервые. Побывал он и в госпитале — там их, конечно, много было, но те, чистенькие, отутюженные, — не в счет. Пробовал подступиться к ним поближе, да где там, — около них тыловики, интенданты всякие, чужакам, вроде Алешки, и прохода не дают. А эта совсем другая, по-солдатски жила. Любопытно стало Алешке, подошел совсем близко, ноги сами принесли. Раненый спросил:
— Водички — нет?
Девушка проснулась, поправила сбившиеся волосы.
— Чего тебе?
Алешке вдруг с болью представился такой вот жаркий день и девчата, задремавшие в копне сена, разомлевшие от полуденного зноя. Любил Алешка сыграть с ними какую-нибудь шутку, не всегда поступал по-рыцарски, бывал ими и бит, но никогда не обижался на девчат. Зато и любили его за веселый нрав…
— А ничего. Раненый пить хочет.
— Без тебя знаю, — огрызнулась, а у самой в глазах просьба: «Ну чего дураком стоишь — ведь есть же тут где-нибудь вода!»
Всякое случалось с Алешкой, но такого вот не было: и неказистая вроде, а