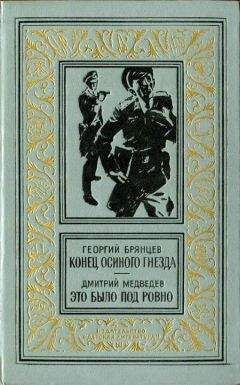Кто бы мог поверить, что люди, отрезанные от внешнего мира колючей проволокой, низведенные до положения рабов, окруженные сворой эсэсовцев, гестаповцев, шпиков и провокаторов, знали многое из того, что происходит далеко за пределами концентрационных лагерей!
— Освенцим, Майданек и Треблинка, — рассказывал Боровик своим новым товарищам, — это настоящие фабрики смерти, тресты человекоубийц. Сколько страшных тайн укрывают дремучие польские леса и топкие болота, среди которых раскинуты лагери! Подумаешь, и страшно становится, кровь стынет в жилах. Мы однажды захватили и уничтожили в Треблинке эсэсовца, работавшего при газовой камере. По внешнему виду он ничем от других не отличался, а вот по жестокости еще не доводилось мне встречать равного ему человека. Хуже, чем вурдалак, упырь, вампир, которыми нас пугали в детстве. Куда там! Я был свидетелем, когда он чайной ложкой выдавливал глаза у одного коммуниста, перед тем как его уничтожить. Ужас! А другие видели, как он отпиливал пальцы и кисти рук или вырывал щипцами челюсти у заключенных, у которых были золотые зубы. И вот этого зверюгу мы сцапали. В лесу дело было. Недалеко от лесопилки. Мы там лес заготовляли. Как он попал в число охранников, я не знаю. Его с газовой камеры никогда не снимали. А тут послали в лес. Нет, это чудовище пощады не просило! Смерть он принял с хладнокровием. Редкий случай, но факт. Да… но не в этом дело. Перед смертью палач рассказал нам, что по его примерным подсчетам, в трех лагерях к началу сорок третьего года было уничтожено более пяти миллионов человек. Постарайтесь осознать эти цифры. Насколько я помню, в Норвегии три миллиона жителей, в Дании — около четырех…
— Без малого вся Греция, — вставил Мрачек.
— А вы послушали бы, — продолжал Боровик, — что он рассказывал о способах уничтожения людей! Он насчитывал их более пятисот. Волосы дыбом встают…
…Седьмого августа сорок третьего года лагерники узнали, что Советская армия два дня назад овладела Орлом, Белгородом и стремительно продвигается на запад.
Откуда могли поступить эти сведения? Иржи Мрачек ушам своим не верил: оказывается, в антифашистском подполье Бухенвальдского лагеря работает радиоприемник, и даже в лагере смерти Освенциме есть радиопередатчик.
Много толков, пересудов и горячих споров у заключенных вызвала весть о высадке англо-американских войск в Италии.
— Не пойму, хоть убейте: почему именно оттуда они начинают? — возмущался Мрачек.
— Видно, им выгоднее так, — спокойно ответил Боровик.
Дальше события развивались непонятно. Пользуясь нерасторопностью союзных войск, фашисты оккупировали Рим, освободили арестованного Муссолини и поставили его во главе правительства Северной Италии. Атмосфера в подполье накалилась. Иржи Мрачек себя не помнил от гнева.
— Горе-вояки! — восклицал он. — Привыкли чужими руками жар загребать. Что можно ждать от этаких, с позволения сказать, войск?
Поздней осенью сорок третьего года тройка, на обязанности которой было выявление и уничтожение предателей, пополнилась по решению лагерного подполья новым членом капитаном Советской армии Максимом Глушаниным. По возрасту он был моложе Иржи Мрачека, за ним следовал Антонин Слива, а самым молодым из четверых был Константин Боровик. В те дни ему исполнилось двадцать четыре года.
Двое чехов и двое русских сдружились. Боровик обучался у Сливы чешскому разговорному языку. Узнав об этом, Глушанин тоже пошел к нему в ученики.
Таким образом наладился «обмен языками»: чехи, в свою очередь, изучали русский. Почти не было случая, когда бы друзья не урывали у ночи часок-другой на эти занятия. И чем богаче становился у каждого разговорный словарь, тем интереснее и горячей проходило учение.
Обычно поступали так: одну ночь уделяли чешскому, а другую русскому языку.
В такие-то ночи и родилась мысль о побеге из лагеря.
Первым эту мысль подал Максим Глушанин.
— Бежать… бежать… — убежденно сказал он. — Нет больше мочи копаться в собственных мыслях и чувствах. Эта рабская жизнь в конце концов высосет из нас все силы, окончательно убьет все человеческое, иссушит мозг. Что до меня, то заявляю: не могу больше терпеть. У меня душа болит сильнее, чем ноги, руки и спина. Хочу быть человеком, товарищи!
— Но как бежать? — спросил Мрачек.
Глушанин чистосердечно признался:
— Не знаю. Пока ничего не знаю, кроме того, что надо бежать.
— Да, надо бежать, — согласился Антонин Слива. Но и он не сумел предложить никакого реального плана.
План стал складываться позднее, в результате бессонных раздумий и советов с руководителями подполья. Максим Глушанин оказался самым нетерпеливым.
— Не могу, не могу больше сидеть, как паук в банке с притертой пробкой! Давайте действовать. Сколько ни выжидай, а действовать придется.
Своеобразный человек был Глушанин. Рослый, с широко развернутыми плечами, с твердой, почти грузной походкой, он производил впечатление богатыря. Темнорусые густые волосы свободно и вольно лежали на его большой голове. В его характере уживались самые противоречивые качества: уравновешенность и бурная вспыльчивость, миролюбие и резкость. Он мог быть, в зависимости от настроения, сговорчивым и строптивым, холодным и горячим, одержанным и беспощадным. Такие же и глаза у него были: то они подергивались дымкой грусти, то в них горел огонь.
В первые же дни бухенвальдского заточения Глушанин вступил в конфликт с комендантом блока. Проходя мимо, Глушанин не пожелал с ним поздороваться. Комендант остановил Глушанина и приказал поклониться. Глушанин отказался, за что незамедлительно получил несколько ударов дубинкой по голове. Этот церемониал повторялся несколько раз сряду и всегда заканчивался побоями. Глушанин отказался отвечать на вопросы коменданта, упорно молчал.
— Я боюсь рот открыть, — говорил Глушанин товарищам. — Знаю, что если открою, то нагрублю и мне будет крышка. Как увижу этого мерзавца, злоба так и подкатывает к сердцу. В глазах темнеет.
Он отдавал себе полный отчет в том, что за свою строптивость ему придется расплачиваться побоями, издевательством, сокращением сроков жизни и, вероятно, самой жизнью, но был бессилен побороть свою ярость.
— Брось ты дурить, Максим, — увещевали его друзья. — Великое дело — поздороваться с комендантом! Чего ты этим достигнешь?
— На всякую сволочь не наздравствуешься, — угрюмо отвечал Глушанин.
— Смотри… — предостерегали товарищи.
— А что мне смотреть? — отвечал Глушанин. — Я отвык пугаться. Такого насмотрелся, что меня теперь ничем не удивишь.
Это была правда. С первых же дней война не щадила Максима Глушанина. Трижды метили его вражьи пули. В сорок втором году он попал в плен. Во время бомбежки его присыпало землей; никто и не поверил бы, что Глушанин останется жив, а он остался. Немцы подобрали его в бессознательном состоянии, в течение двух недель он ничего не видел и не слышал, а как оправился, то бежал из лагерного госпиталя и через линию фронта перебрался к своим. Во второй раз немцы захватили его тяжело раненным. Три месяца провалялся Глушанин на больничной койке, а из госпиталя попал в Бухенвальдский лагерь.
— Сколько ж можно мучиться? — говорил он. — У сердца тоже свои нормы терпения. Оно как песок. Когда песок напитается водой, сколько ни лей, больше не примет ни капли.
Глушанин умел хорошо рассказывать, слова у него были выразительные, плотные. Но слушать умел тоже. И не терпел людей, которые перебивают рассказчика.
Несмотря на все странности характера, была в Глушанине какая-то основательность, надежность. Товарищи уважали его.
Константин Боровик ничем не был похож на Глушанина — ни наружностью, ни строем души. Был он тонок костью, сухопар, подвержен чувствительности, а в решениях и поступках осторожен. На боевое задание, связанное с ликвидацией предателей, шел не иначе, как заранее продумав весь план и уже не сомневаясь в успехе. Лицо у Боровика монгольское, смуглое, хоть и был он чисто русским человеком. Скулы широкие, разрез маленьких черных глаз косоватый. Был он не речист, а в движениях ловок и находчив. Успешней других за спиною охраны проникал Боровик ночью в соседние бараки. Именно ему поручало руководство выслеживать предателей, которым был вынесен приговор подполья.
О своей интенсивной душевной жизни Боровик рассказывать не умел, это тяготило его, он делался молчаливым и задумчивым. Иногда часами он лежал без движения, широко открыв глаза и вытянув длинные руки.
В плен Боровик попал в неравном бою; прежде чем его сбили с ног и обезоружили, он уничтожил офицера и четырех солдат.
У Глушанина, валявшегося в беспамятстве, отобрали три ордена и две медали, а Боровик сумел сохранить при себе орден Красной Звезды и медаль «За отвагу».