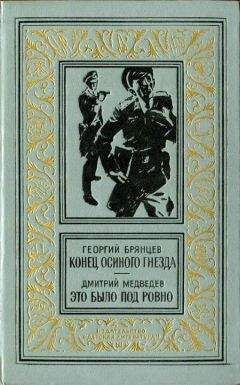У Глушанина, валявшегося в беспамятстве, отобрали три ордена и две медали, а Боровик сумел сохранить при себе орден Красной Звезды и медаль «За отвагу».
План побега из лагеря складывался так: пробраться в Чехословакию и там примкнуть к партизанскому движению. Ориентировались на леса Брдо, которые хорошо знал Иржи Мрачек, — в былое время он часто охотился в этих местах.
— Охота для меня всегда была лучшим отдыхом, — вспоминал Мрачек.
— А я вот, казалось бы, охотник по крови, да не стал им, — сказал Глушанин. — Мой прадед, дед, отец, братья — все охотники. А у меня не вышло.
— Почему? — спросил Антонин.
— Такой случай выдался. Могу рассказать. Было мне тогда лет пятнадцать, не более. Примерно в полукилометре от нашей деревни лежит озерцо. Небольшое такое, неглубокое и все густо заросло камышом. Я ловил в нем рыбешку, мелюзгу всякую, знал каждую кочку на берегу. Никогда охотники на это озеро не заглядывали — полагали, что дичи там нет. А я знал, что в камышах живет утка с выводком. Знал и молчал. Прикидывал так: пусть подрастут утята, возьму у отца ружье, да и перестреляю всю утиную семью. Разговоров тогда хватит на целый год. И вот однажды, примерно за месяц до открытия охотничьего сезона, лежу я на бережку и сам не знаю, о чем думаю. Дело к вечеру. Смотрю, катит на своей двуколке районный пожарный инспектор. Я знал его в лицо, но никогда не подозревал, что он охотник. Да он и не был охотником, а с ружьем ездил потому, что трусоват был. Тогда у нас бандиты кругом пошаливали. Смотрю, остановил инспектор лошадь, взял ружье, слез с двуколки — и прямо к озеру. Меня не видит, я на другой стороне. Хотел я ему крикнуть, что охоты еще нет, да промолчал. Гляжу, что дальше будет делать. Только инспектор подошел к камышам, вдруг утка: «Ква… ква… ква…» Он хлоп — и готово. Видел я, как утка взлетела, видел, куда упала, а инспектор ищет и никак не найдет. Сидит она под большой кочкой, спрятала голову, только хвостиком трепыхает. Весь берег истоптал инспектор, измотался до пота. Так и уехал ни с чем. Я дождался, пока он уехал, хотел уж в воду лезть, подобрать раненую утку, гляжу — вот она, плывет… Правое крыло по воде волочится, и след крови за ним тянется, а по обе ее стороны шестеро утят. Еще опериться не успели. Стою я, смотрю. И утка меня видит, а не прячется. Не боится. Привыкла она ко мне, каждый день видя. И до того я обозлился на пожарного инспектора, что убить его был готов. А утку не тронул. Так жалко ее стало, что и передать не могу. И каждый день после этого случая ходил я на озеро, часами лежал на берегу и смотрел, как выгуливает утка свою детвору. Осенью молодые улетели, а утка осталась. Не могла лететь с подбитым крылом. С какой тоской глядела она вслед своим питомцам! Как билась на воде! Сколько горя было в ее крике! Меня слезы душили… Тогда я поймал эту утку. Загнал в камыш и поймал…
— И зажарил, — сказал Иржи Мрачек.
— Нет, не угадали! Расскажу — не поверите. Всю зиму я с ней нянчился и свою учительницу замучил. Она тоже приняла участие в судьбе утки. Крыло у нее срослось неправильно. Мы его сломали, залечили, и оно выправилось. А весной вынес я утку за деревню, выпустил. Так взвилась она, с таким свистом и радостью, что я, ей-богу, пожалел: зачем летать не умею!
2
Вопрос о побеге был окончательно решен, определены сроки, намечены укрытия по предполагаемому пути следования, выделены люди для содействия побегу.
В это время пришел приказ отправить несколько партий заключенных в Дахау, в подсобный лагерь «Дора» и дрезденский пересыльный пункт. План побега, разработанный во всех деталях, был сорван. О побеге нечего было и думать: в те дни, когда идет распределение заключенных по партиям, охрана усиливается.
Глушанин из себя выходил и до того был раздражен, что друзья не решались ему противоречить.
Иржи Мрачек волей-неволей примирился с тем, что вопрос о побеге снят. Все свои силы и старания он направил к тому, чтобы он и трое его друзей не попали в списки отчисляемых из лагеря, а уж если этого нельзя избегнуть, то нужно держаться вместе. Добиться этого было далеко не просто. Руководство подпольной организации помогало Иржи Мрачеку в его скрытых действиях.
Его усилия к общей радости увенчались успехом: всех четверых записали в партию, которая направлялась в Дрезден.
— Максим!
Молчание.
— Максим!
— Что?
— Не спишь?
— Нет.
— О чем думаешь?
— Думаю о том, что хорошо бы сейчас попариться в баньке.
Иржи Мрачек усмехнулся, пододвинулся поближе к Глушанину. Лицо его едва белело в предутреннем полумраке.
Глушанин спросил:
— А ты почему не спишь?
— Да вот… я решил переговорить с Брохманом. Будь что будет! Не думаю, что вызову у него подозрение.
Глушанин сел на соломе и поджал под себя ноги. Что, если и в самом деле рискнуть? Ведь Брохмана никак не обойти. А если Брохман не пойдет на крючок? Тогда что? Кто знает, что у этого Брохмана на уме? Но и другого выхода нет. Нет выхода. Сколько раз друзья обсуждали этот вопрос, а к чему пришли? Как ни верти, как ни прикидывай, а все упирается в Брохмана. Время уходит, потом его не догонишь. Дрезденский пересыльный лагерь — не Бухенвальд. Там были друзья, много друзей. Там была хорошо слаженная подпольная антифашистская организация. А здесь? Здесь ничего нет. Здесь большинство заключенных — уголовники, самая ненадежная и неустойчивая публика. Эти за деньги, за жалкую подачку готовы отца родного посадить за решетку. Для них ничего нет святого.
Староста четвертого барака Брохман тоже уголовник. На его счету не один десяток жертв. Изувечить или забить до полусмерти заключенного для него все равно, что плюнуть. Поэтому нельзя медлить. Но заранее нужно все предусмотреть. Идя на явный риск и в некотором роде на провокацию, следует считаться с последствиями, которые могут произойти. Вариант, который Мрачек предлагает сейчас осуществить, принадлежит, собственно, Глушанину. Были и другие варианты. Предлагал их Слива, предлагал Боровик, но все они слишком ненадежны.
В конце концов все согласились с Глушаниным. И хотя его вариант не давал полной уверенности в успехе, все-таки он имел под собой реальную базу. Глушанин предлагал припугнуть старосту Брохмана. Не прямой, конечно, угрозой, а как бы случайным намеком. А там уже, судя по результатам, действовать дальше. Дело вот в чем: Глушанину удалось выяснить из разговора заключенных, что Брохман родом из Судет, но вовсе не немец, за которого себя выдает. На этом и построил Глушанин свой план.
— А не болтовня это? — спросил недоверчивый Боровик.
— Откуда же я могу знать? — ответил Глушанин. — Проверить трудно. Родители его, надо полагать, давно на том свете. Ведь и детенышу их сейчас, пожалуй, под пятьдесят подошло.
— А чего бояться? — высказался Слива. — Если разговоры такие ведутся, то они рано или поздно дойдут и до Брохмана. Дело только во времени. Возможно, они дойдут и до гестапо, и тогда Брохману все равно не ходить в капах. Я за то, чтобы переговорить с Брохманом, пока он сам ничего не разведал.
Оставалось решить, кому заговорить с Брохманом. Вот это и нужно было хорошенько обдумать. Ни Глушанин, ни Боровик для такой роли не подходили. К русским Брохман относился особенно враждебно. Значит, оставалось решить, кому из двух поручить рискованный разговор: Мрачеку или Сливе. И вот Иржи Мрачек сам заговорил об этом.
Молчание затянулось. Мрачек подумал, что Глушанин заснул. Он спросил громче:
— Ну, что же ты скажешь?
— Придется переговорить. Хоть и сволочь порядочная этот Брохман, а придется.
— Я тоже так думаю.
— Что думаешь? Что придется или что он сволочь?
— И то и другое.
— Да… пробуй. Выбора у нас нет.
— Сказать ребятам?
— Не торопись! Пусть отдыхают пока.
Тускло светившие лампочки сразу погасли. Это означало, что через полчаса раздастся свисток дежурного, потом подъем, умывание и угон на работу. Четвертый барак, где жили друзья, разгружал в эти дни на воинской платформе вагоны со снарядами и минами. Работа на железнодорожном узле облегчала побег, но отсутствие Боровика, которого Брохман, как назло, ежедневно наряжал на работу в город, в авторемонтные мастерские, задерживало осуществление плана.
Не дожидаясь звонка, Мрачек спустился с нар, обулся и вышел в коридор. В бараке был мрак кромешный, гнетущая тишина. В этот час особенно глубок сон уставших, физически изнуренных людей. Работали они ежедневно от зари до зари, с получасовым перерывом на обед. Завтракали до выхода на работу. Ужинали по возвращении. Обед, состоявший из свекольной похлебки и двухсот граммов суррогатного хлеба, только поддерживал тепло в организме. Перед каждым заключенным в перспективе стояла, как призрак, голодная смерть. Больных, не выходивших на работу, не кормили. Поэтому заболевшие люди, через силу волоча ноги, строились в колонну и вместе со всеми шли на объекты. К чему только не прибегали люди, чтобы скрыть симптомы болезни! Заведомо было известно, что ждет больных и негодных к труду: их изолировали и уничтожали.