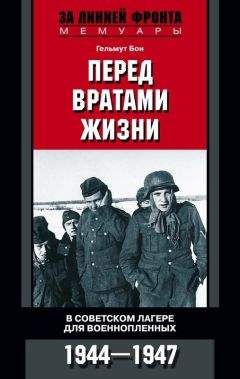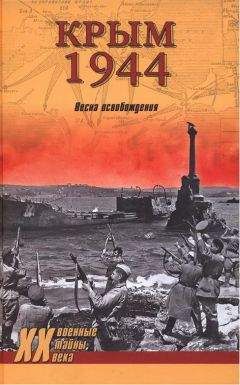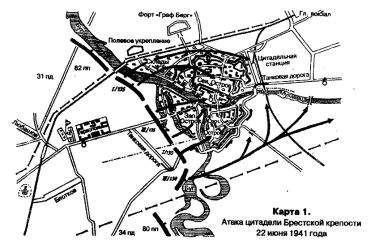Левее среди пышной зелени виднеются пять куполов в форме луковиц.
А за ними монастырь, словно средневековая крепость (русские монастыри и были крепостями — в условиях постоянных вражеских вторжений. — Ред.) из кровавокрасного обожженного кирпича. Осташков, старинное место паломничества, залит ярким солнечным светом. Весенний ветер колышет кроны деревьев. Настоящая симфония патины и белого цвета.
— Там дальше впереди светлое здание, что это такое? — спрашиваю я.
— Это тюрьма.
— Ах вот как! — удивляюсь я. Такое импозантное здание. — А еще дальше, перед польским лагерем, дом казарменного типа, видимо, там живут Ларсены?
Шауте радуется, наблюдая за мной. Ему тоже приятно, что я теперь все вижу в своих новых очках. Он помог мне получить их и теперь все подробно объясняет.
— А большая машина на торфоразработках? — интересуюсь я.
— Ее сейчас переналаживают. Скоро начинается новый сезон.
Мне также очень понравилось, когда нам, нескольким активистам, разрешили пойти без конвоя в главный лагерь.
Курт тоже идет с нами. Мы поочередно осторожно оглядываемся, чтобы проверить, не идет ли кто-нибудь за нами.
— Жаль, что Мартину не разрешили пойти вместе с нами! — восклицаю я. Мартину запрещено ходить без конвоя по прекрасной советской земле. Ведь в его личном деле сохранилась справка «буржуазный элемент» или что-то в этом роде.
Курт и я предлагаем остальным:
— Давайте сделаем короткий привал!
Мы находимся позади торфоразработок у зарослей ольхи. Кругом так много красивых быстровянущих цветов, что их можно было бы косить косой.
Мы ложимся животами на землю.
Чудесно пригревает солнце.
Позже мы видим в траве крупного ужа.
Вообще-то нам надо было пойти в главный лагерь только потому, что там находился центральный вещевой склад. Ларсен тоже присутствовал при этом. Так что задыхающемуся от ярости русскому заведующему складом пришлось все-таки выдать нам кое-что из одежды.
Я получил новенькую шинель немецкого полицейского. У нее на подкладке сохранился даже ярлык венской пошивочной мастерской. Но я предпочел уступить эту шинель Курту. Она показалась мне слишком броской. Такая маркая модная зеленая ткань и серебристые пуговицы!
Позднее Курт даже обиделся на меня за то, что я всучил ему эту броскую дорогую вещь.
Для любого пленного было очень важно получить приличную одежду. Тем временем я сумел разжиться парой сапог от майора. Я нарисовал его портрет по фотографии из паспорта. За это заведующий складом должен был выдать мне пару русских сапог с кирзовыми голенищами, намазанными черной ваксой.
Но это я рассказываю о незначительных вещах, а при этом в мае 1945 года произошло немало и других важных событий.
Когда однажды ночью я просыпаюсь и радуюсь, что мне, как активисту, не надо больше топать в дальнюю уборную, а можно справить нужду совсем рядом в амбулатории, в полусне я слышу, как в наш барак входит какой-то русский. Он все еще здесь, когда я возвращаюсь из туалета и снова карабкаюсь на нары.
— Война капут, товарищ! — говорит русский старшина, который дежурит в эту историческую ночь в лагере для военнопленных номер 41. Он вне себя от радости и хочет поделиться ею с нами, военнопленными.
— Ребята, война закончилась! — восклицает Ганс, который наконец-то проснулся. Русский старшина обнимает его.
Некоторые активисты сразу бросаются к другим баракам:
— Война закончилась! Безоговорочная капитуляция!
Но я тотчас снова засыпаю. Как крестьянин, который в полусне услышал, что после долгой засухи наконец пошел дождь. Неужели идет дождь? Надеюсь, посевы взойдут скорее.
Утром я какое-то время припоминаю: «Прошлой ночью что-то произошло? Ах да!»
В этот день мы в активе встаем рано. Видимо, у нас будет сегодня полно хлопот. Ганс должен был рано утром бежать к Борисову.
— Сначала мы должны изготовить флаг! — передает Ганс указание Борисова.
Борисов стоит рядом и смотрит, как я окунаю наматрасник в красную жижу.
— Сколько же краски надо, чтобы покрасить его! — в отчаянии восклицает Ганс, который боится, что нам не хватит выделенной краски.
— И все-таки он не совсем красный! — говорю я. — И такой тяжелый, как свинец, из-за этого свинцового сурика!
— Давай, давай, продолжай! — торопит меня Ганс.
Лагерь выходит на построение.
— Теперь уж мы наверняка к Рождеству будем дома! — говорят пленные.
И когда в безоблачном весеннем голубом небе появляется солнце, мы поднимаем красное знамя.
Борисов внимательно всматривается в наши лица, когда двое активистов прикрепляют флаг к длинному шесту.
«Вот каким должно теперь быть наше знамя!» — думают многие из пленных.
Ганс очень старается, выступая с приветственной речью. Борисов стоит у него за спиной и заставляет переводчика переводить все слово в слово. Однако теперь у нас переводчиком какой-то поляк, который толком не знает ни русского языка, ни немецкого. Борисов явно недоволен речью Ганса. А в заключение Ганс произносит здравицу. Полагаю, в честь победоносной Красной армии. Мы запеваем: «…священная последняя битва». Правда, наш хор звучит довольно слабо.
И мы действительно рады, когда появляется Ларсен, который подробно рассказывает, что же произошло.
Из-за колючей проволоки мы видим, как русские из соседнего поселка сооружают танцплощадку. Гармошка играет вовсю уже с самого утра. Они танцуют парами и группами. Видимо, вечером все пойдут в Осташков. Там будут стрелять в воздух из ракетниц, и водка будет литься рекой. Поэтому в течение трех дней всем военнопленным запрещено показываться на улице.
— Не могла бы кухня приготовить сегодня что-нибудь особенное? Может быть, выдать каждому на сто граммов больше картофельного пюре? — предлагает Ганс нашему шеф-повару Шински.
— Откуда? — спрашивает тот. — Нет, сегодня не получится приготовить что-то особенное.
Вечером Вилли организует небольшое культурное мероприятие. Повторение готовых номеров из прежних представлений. Хор под управлением «епископа Падерборнского» исполняет гимн Советского Союза. Они поют совсем неплохо: почти как казаки, которые больны туберкулезом.
Неожиданно объявляется пожарная тревога. Горит пустошь за сосновым бором.
Всем обитателям первого барака разрешают принять участие в тушении пожара.
Без конвоя!
Сосновыми ветками мы сбиваем огонь с горящих кустов. Дым валит клубами, словно из сотен коптилен. Когда нас со всех сторон окружают небольшие очаги пламени, мы сначала делаем вид, что не сразу замечаем их. Но потом с криком бросаемся на них и с таким ожесточением хлещем ветками, что искры летят во все стороны.
— По крайней мере, хоть какое-то разнообразие в нашей жизни в этот день! — говорим мы, собираясь под старой сосной у дороги.
Мы маршируем назад в колонне по три человека в ряд, а не как пленные, которые всегда ходят по пять человек в ряд.
Мы шагаем даже в ногу.
— А песню! — кричит кто-то.
— Голубые драгуны?
— Ну, запевайте! — разрешает Ганс, успевший прикинуть, не фашистская ли это песня.
Стоящий у обочины крестьянин, видимо, немало удивлен, откуда вдруг взялись эти поющие и марширующие немцы.
На нас на всех новая форма и высокие сапоги. Ведь мы, как-никак, из первого барака.
Но крестьянин, конечно, ничего не знает об этом и удивленным взглядом провожает нашу колонну, которая быстро исчезает в ночи.
Для крестьянина все очень просто и со временем ничего принципиально не меняется: вот только что прошла колонна немцев.
— Все-таки после капитуляции что-то должно произойти! — обращаюсь я к Курту.
Когда я вхожу в барак, то вижу, что там только Мартин, который играет на скрипке, стоя на табуретке. В последнее время он часто поступал так. Сначала ему захотелось лишь подержать скрипку в руках. Поэтому он просто остался стоять на табуретке, когда в первый раз достал скрипку с верхних нар. Но когда он взял в руки смычок и провел им по струнам, то, забыв обо всем на свете, начал играть.
Вот и сегодня он играет что-то серьезное. Его взгляд устремлен куда-то вдаль, и он полностью погружен в свои мысли. Подбородок опущен, а лицо болезненно перекошено. Мартин стоит на табуретке и играет. Словно памятник.
— В моих глазах ты постоянно предстаешь как последний порядочный немец! — говорю я Мартину.
Кроме игры на скрипке у нас, обитателей первого барака, были и заботы посерьезнее.
Например, для меня не было большой проблемой, когда однажды меня разбудили среди ночи и сообщили, что мы с Куртом назначены бригадирами и рано утром должны выступить со своими бригадами численностью девяносто человек каждая на помощь одному из ближайших колхозов.