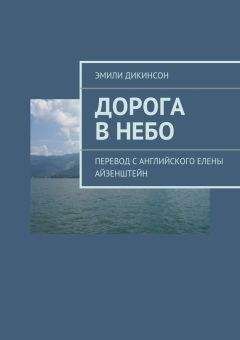Старик улыбнулся, Хведор продолжал:
— Старший, тот строгий: «Имя? Фамилия? Деревня?» Все записал. Говорит: «Не я буду, если медаль не получишь».
— Куда там! — сказал дед.
— А что? Вполне возможно, — заступился Хведор. — Так и сказал: «Не я буду, если медаль не получишь».
— Мать есть? — спросил я.
— Нема, — сказал Хведор и понурил голову. — Вмерли.
— А батько тут?
— Ни. На фронте.
— А братья?
— Тэж.
— А кто ж за хозяина?
— Сам! — ответил мальчик.
— Хведор, ты и на дорогу дай, — сказал слепец, когда мы закончили трапезу.
— А то как же. — Хведор напихал мне в карманы вареного картофеля и хлеба.
Я собрался в путь.
— Дядь, я тебе дорогу покажу, — сказал хлопчик.
— А знаешь, в какую сторону мне?
— Уж знаю, — ухмыльнулся он.
Мы вышли на шлях, на длинный и пустынный, как река, Грайворонский шлях.
Хведор внимательно посмотрел на меня.
— Дядь, а понимаешь, какое тут место? — проговорил он загадочно.
— А что?
— Ого! — сказал он с удовольствием. И привычно, как уже, наверное, много раз, он торжественно сообщил: — Вот тут, — он потопал сапогами, — тут У-эс-эс-эр, а вот, гляди, дядь (он, как бы показывая фокус, перебежал к группе тополей), а тут — уже Ре-сэ-фэ-сэ-ре! То сама граница! — добавил он и с любопытством и гордостью хозяина этого удивительного места на земле посмотрел мне в лицо.
Это было для него вечно загадочно и прекрасно, что он жил у этой невидимой, но важной государственной черты и по нескольку раз в день, когда только хотел, ходил из Украины в Россию, в голубеющий вдали лесок, за грибами и ягодами, а по вечерам хлопчики из России приходили к ним, на Украину, в сельский клуб смотреть картину «Чапаев» или «Минин и Пожарский».
— В школу не ходишь? — спросил я.
— Ни, — печально ответил мальчик.
— А учителя где?
— Там! — он показал на восток.
— Что же ты делать будешь?
— А ждать буду.
— Кого?
— А известно кого — русских. Патроны дай, дядь! — сказал он неожиданно.
— Да вот сколько хочешь! — показал я на разбросанные вокруг стреляные гильзы.
Да что! — пренебрежительно воскликнул Хведор. — Мне с пулей!
— А у тебя винтовка есть?
Он загадочно улыбнулся, что должно было означать: «Я не говорю „да“, но ты сам должен понять».
Я дал ему подобранную мною накануне на дороге обойму патронов с красно-черной головкой.
— Ух, дядьку, бронебойно-зажигательные! — сразу узнал он.
— Ну, прощай, Хведор.
— Прощевайте, дядьку! — сказал он с солидностью хозяина в семействе и ушел с бронебойно-зажигательными патронами в У-эс-эс-эр.
Одни шли строго на восток — на Белгород, Оскол — старыми чумацкими шляхами, другие брали южнее — на Изюм — Барвенково — мимо взорванных шахт, похожих на следы древнего мамонта, и «Короча», «Валуйки» звучало как пароль. Там был фронт. Это — будущие бойцы Первого Украинского, те, кто штурмовали рейхстаг. Третьи шли на север — на Синчу, Сумы; они говорили: «Там леса!..» Их видели после в колоннах Ковпака, в армии Брянских лесов.
А кто не добрался тогда до Корочи, Валуек или Брянских лесов и не прошел через фронт, — встречали тех бойцов из-под Киева в маки, в горах на берегу Адриатического моря, в словацком восстании, на Миланской площади, когда вниз головой вешали итальянского дуче, — всюду, где шла народная война с «господами мира».
Не сразу, а постепенно, мягко, плавно Украина переходит в Россию.
Те же задумчивые в осенней мгле холмы и перелески, те же высокие, стройные, как часовые у дорог, тополя, те же тихие иглистые ели, березы с поникшими к земле длинными, шелковистыми, все чувствующими ветвями.
Прощаясь, мелькают на пригорке белые хатки, но вот уже стали в поймах рек попадаться бревенчатые русские избы на столбах, со светлой кровлей и резными наличниками на окнах.
Все реже и реже слышу оклик «хлопче», а говорят «гражданин» или «товарищ», и чаще встречаются окладистые бороды, степеннее, строже речь, и села называются по-другому: Русская Березовка, Стрелецкое, Драгунское… И только еще долго-долго, будто Украиной посланные вдогонку, провожают вас, иногда выбегая к самой дороге, подсолнухи и печально стоят так, низко опустив тронутые инеем седые головы.
Впервые вижу все это так близко, так подробно, переходя от села к селу, от холма к холму, от леса к лесу, и сердце переполняется щемящей, полной прощальной печали любовью.
Уже позади и Грайворон. Пока добрался до него, фронт переместился на восток, за Белгород.
Но на Белгород не пройти — дороги запружены немецкими войсками. Сворачиваю на север, на Корочу. Говорят, что там — фронт.
Если бы сказали: на север не пройти, повернул бы на юг — к Донбассу, на Ростов, Сальск, шел бы день и ночь, год и два…
Уже конец ноября, и крепкий морозец по утрам, солнце появляется свежее, румяное, как яблоко.
В такое утро легко дышится. Тонкий трескучий ледок на лужах дороги, березы в кружевах инея, оранжевые гроздья рябин — все бодрит. И тогда кажется: иду на работу, вон в ту дальнюю, с серыми шиферными крышами и башнями силосов, усадьбу совхоза, и радостно идти к этой цели.
Но там, где были дома, остались лишь черные трубы.
— Есть кто там? — крикнул я в погреб, услышав голоса.
— Есть! — ответил тоненький голосок.
— Кто?
— Жители.
Их двое: худенькая с фарфоровым личиком девочка лет двенадцати и толстый, завернутый в мохнатый платок толстощекий мальчик лет пяти. Очень они похожи друг на друга, оба с остренькими носиками, как бы спрашивающими: «Что же это такое делается на свете, что нас оставили одних?»
— Дядьку, что там наверху? — спросила девочка.
— Тихо.
— А тут старуха одна приходила, говорит: небо упало на землю.
— Нет, пока порядок.
Девочка слабо улыбнулась:
— Тоже скажут!
Мальчик, внимательно прислушиваясь к разговору, сосал палец и вдруг объявил:
— Явтух кушать хочет!
— Как тебе не стыдно, — сказала девочка.
— Мне не стыдно, — ответил Явтух.
— Ты съел целый початок.
— Мало, — сказал мальчик, пожевав губами, как бы демонстрируя свою способность продолжать эту работу.
— Брат? — спросил я.
— Братик, — ответила девочка и ладонью смахнула пузырь под носом Явтуха.
— Да-а-ай, Любка!
— Хватит! — прикрикнула на него Любка.
— Мамка! — заревел мальчик.
— Эх ты, глупый! — сокрушалась Любка. — Разве докличешься до мамки?
— Докличусь! — сказал Явтух.
— Ну и реви.
— Да! Мамка дала бы! Разве пожалела бы? — продолжал свое Явтух.
Они остались одни, деда застрелил немецкий солдат, когда тот вступился за кролика, мать угнали солдаты в черных касках. Они убежали и спрятались в погреб и слышали, как мать кричала: «Явтух!» А чужеземцы хохотали и, дразня ее, тоже кричали: «Янтух!»
Где-то рядом остановилось орудие и стало стрелять — и стреляло без конца. Потом прилетели самолеты. Их было так много, что они закрыли собой звезды. И раздался свист падающих бомб.
Любка прижалась к земле и позвала: «Мамка!» Небо было красное от пожаров.
Потом мимо них прошла толпа. Они слышали ее топот, говор, немецкую команду. И сквозь все, и над всем — чьи-то прощальные крики. Долго-долго кто-то вдали надрывался жалобным прощальным криком улетающей осенью птицы. И чудилось Любке что-то знакомое, но она не могла вспомнить, чей же это голос. И потом вдруг во сне поняла, что это был голос матери. Она вылезла из погреба, но уже никого не было.
Сначала она подумала, что во сне заблудилась. Она хорошо помнила, что спряталась в погребе дома в центре поселка. Теперь же она стояла словно в чистом поле.
Домов вокруг не было. Лишь кое-где маячили печи с черными трубами, на припечке стояли горшки, вот прислонена кочерга.
Ветер гудел в одиноких трубах, и чудились голоса, будто люди ушли, но голоса их остались жить в поселке. Это были голоса, которые неизвестно откуда возникали и неизвестно куда исчезали.
— Дядьку, пожалей нас, — сказала Любка.
— Не оставь! — потребовал Явтух, глядя на меня строгими глазами.
— Доведи до станции, там тетка.
— Тетка Лукерья и дядя Тимофей, — пояснил Явтух.
— Доведи, дядьку! — просила Любка.
— Там паровозы гудят, там горячие пышки, — как бы про себя рассуждал Явтух.
Любка быстро собрала братика и завернула его в многочисленные платки, так что теперь он похож был на ваньку-встаньку — что в ширину, что в длину.