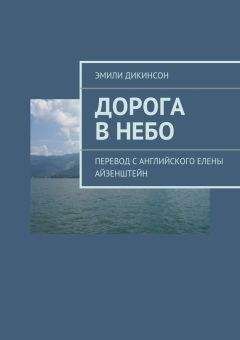Теперь на путях стояла черная колонна паровозов. Есть что-то невыразимо грустное в картине одиноких паровозов, словно нет уже на свете поездов, некого и некуда возить.
На пустынном перроне, засыпанном мертвыми, жухлыми листьями и стреляными гильзами, такая тишина, что слышно было, как возятся под крышей вокзала воробьи. Все окна выбиты, ветер носил и кружил какие-то ведомости.
Начиналась вьюга.
За станцией, на опушке леса, стоял заброшенный дом, и я вошел в него. Там уже был кто-то. Я сразу узнал обиженное лицо — словно он собирался подуть в дудочку, а дудочку отобрали: Пикулев, рыхлый, обросший сивой щетиной, в кацавейке с облезлым воротником. Он как-то странно, на корточках, сидел у стены и, прикрыв от наслаждения глаза, вздыхая, с чавканьем грыз початок кукурузы.
Когда я подошел, он инстинктивно, рывком спрятал початок за спину, но потом, взглянув на меня, снова принялся грызть, тяжело, как мельничными жерновами, работая челюстями, точно ему стоило больших усилий обработать этот початок.
— Жив?
Теперь и он узнал меня и как-то печально осклабился.
В сенях застучали винтовки. Цепкие руки Пикулева, державшие початок кукурузы, дрогнули.
— Принимай гостей, хозяин! — громко сказал юноша в кавалерийской фуражке, лихо одетой на марлевую повязку, обращаясь к Пикулеву, который торопливо догрызал початок. — Что за тип?
Загипнотизированный командным голосом, Пикулев вскочил.
— Эх ты, горжетка! — определил кто-то из бойцов, увидя его кацавейку с мокрым собачьим воротником.
Один из вошедших, в брюках-клеш, с забинтованным лицом (остались только щелки для глаз), взглянув на Пикулева, сказал:
— Шикуешь?
И по одному этому «шикуешь» я тотчас же узнал его.
— Синица?
— Поднять флаг! — крикнул он и кинулся мне на шею.
— Тебя где?
— А там же — под Ахтыркой. Вот к лейтенанту прибился. Знакомься, лейтенант, — сказал он юноше. — Свой!
Лейтенант протянул левую руку (правая лежала на перевязи) и резким, отрывистым голосом сказал:
— Гуляев. А ты кто?
— Я студент-историк.
— Карфаген, Канны?.. Как же, знаю! — сказал Гуляев.
Свою историю Гуляев рассказывает отрывисто, будто командует.
Как раз перед войной окончил в Харькове кавалерийское военное училище и сразу — марш-марш на фронт! Под Черниговом бой. Контузия. Очнулся — на поле немецкие санитары. Спрятался в клуне. Разговор с хозяйкой: «Может, останешься? Посеешь и пожнешь». — «Патроны и пулеметы — вот мое дело!»
В лесу встретил двух друзей — Петю и Васю.
Про первый бой сообщает:
— Петя — слева, Вася — справа, я — в центре. Ранены все трое.
Потом их было девять. Все кавалеристы. «Имени не позорьте. Первые в деревню!» Напали на немецкую конюшню, перебили часовых и ускакали на конях. Остановились в темном лесу. «Наступать — для меня царство, отступать — лучше могила!»
Теперь их было уже двадцать. Тактика проста: днем скрываются в лесу, начеку охранение, бодрствует разведка; в сумерки — марш-марш! — и на полном карьере на шлях, из ручного пулемета и гранатами по обозу; никто не успеет оглянуться — уже исчезли во тьме полей. Двигались ночами, все на восток. «Наступать — для меня царство, отступать — лучше могила!» Так до самого Харькова. Нарвались на засаду. Кинжальный огонь. Несколько часов сряду за крупами убитых коней отстреливались и ночью, унося раненых, ушли…
Даже самые простые житейские слова, например: «приготовить кружки» или «внести сено», Гуляев произносил командным голосом, тем резким нечеловеческим голосом, который не допускает и даже не предполагает возможности непослушания или неисполнения.
Когда он внезапно задремал, то первое время у него еще было хмурое, начальственное лицо и чувствовался в нем этот железный голос, но постепенно лицо его как-то прояснилось, возвращаясь куда-то далеко-далеко, в светлый мир. Между темной от крови повязкой и воротничком гимнастерки видна была узенькая нежно-белая полоска худой юношеской шеи. Тихое лицо его с чуть припухшими, как у капризных детей, губами говорило: «Да, на самом деле я такой, и мне ничуть не стыдно этого».
Бойцы, которые шли с ним, были почти мальчики, — наверное, в этом июне они еще сдавали школьные экзамены. Вокруг я видел большие серые, или голубые, или карие с золотинкой глаза, в которых еще искрилось тонущее, но не утонувшее в море печали мальчишеское озорство. Добрые, нежные, любящие мальчики, которые именно благодаря своей доброте, нежности и любви к людям и жизни оказались несгибаемо беспощадными и страшными в ненависти к врагу.
Синица вытащил из сумки противогаза репу, разрезал на ломтики, ударил по каждому черенком и сказал:
— Бифштекс по-гамбургски!
— А у меня — крокет де воляй, — сказал один боец, вытаскивая из кармана печеный картофель.
— Цигарочки нет ли, молодежь? — попросил Пикулев, по-барсучьи, догола, обработавший свой початок.
— А тебе что, — сказал Синица, — «Казбек» или «Северную Пальмиру»? Или, может, «Золотое руно»?
— Выдай, выдай ему, главстаршина, «Золотое руно», — засмеялись бойцы.
— Наверно, «Камелией» умывался? — допытывался Синица. — И «Красной Москвой» душился? Любишь Москву, когда она — духи?
— А воевать не любит! Ох, не любит! — сказал Максименок, худенький паренек, раненный в обе руки.
— За что, ребята? — обиделся Пикулев. — Я ведь на восток иду.
— Как заяц идешь! — жестко сказал Гуляев, проснувшийся так же внезапно, как и заснул.
— Вот выберется и поедет в Ташкент родину любить, — предрекал Максименок.
Синица сказал:
— «Без доклада не входить!» — «Товарищ, я воевал!» — «Мы все воевали». — «Товарищ, я раненый!» — «Мы все раненые».
Кто-то добавил:
— Пролезет на собрании в президиум и будет квакать: «Регламент! Регламент!»
— Отставить! — сказал Гуляев.
Сидя над картой, лейтенант, задумавшись, разглаживал пальцами несуществующие усы и, уловив мой взгляд, сконфуженно улыбнулся.
— Боков, — приказал он, — компас!
Тот, которого звали Боковым, перебинтованный менее других (у него только висела на перевязи левая рука), вытащил из кармана компас, и все сгрудились вокруг лейтенанта и стали жадно глядеть на стрелку.
Это был маленький, похожий на луковицу, светящийся во тьме компас с колеблющейся стрелкой, вечно трепетно тянувшейся к северу. Но сегодня он взбунтовался: стрелка, волнуемая какими-то непонятными и таинственными подземными или воздушными силами, более могучими и непреодолимыми, чем притяжение полюса, стала отклоняться почему-то на восток. И сейчас ее тоже потянуло на восход солнца.
В наступившей тишине кто-то сказал:
— Да это Курская аномалия!
В пустом и темном доме при звуке этих слов будто вспыхнул волшебный свет, и мы оказались в другом, знакомом, привычном мире. Среди босых, в окровавленных повязках бойцов поднялся горячий и пылкий разговор. И о чем только не было говорено в этот вьюжный сумеречный день в старом заброшенном доме, на соломе, под вой и плач вьюги!
Вспомнили последний праздник Первого мая.
— У нас на Алтае снег был, — тихо сказал боец, у которого нога была в гипсе.
— Эге, хлопче, — перебил его бородатый раненый по фамилии Путря, — и у нас в Мелитополе был снег, но то не с неба был снег, а с вишен и яблонь.
— А у нас на Чирчике, ребята, не только на Первое мая, но и на первое января нет снега, — сказал узкоглазый узбек Хамза. — Хорошо живем!
— Хамза, а ты бабаев видел? — спросил вдруг Синица.
— Каких бабаев? — не понял узбек.
— Ну, помещиков ваших.
— Баев? Нет, не видел.
— То-то! — сказал Синица тоном настрадавшегося от помещиков.
— А у нас на Цимле как хорошо! — сказал молчавший до сих пор юноша с казачьими лампасами на шароварах.
И так каждый вспоминал свою местность, и о чем бы ни шла речь — о Горной Шории, где впервые зацвели яблони, или о том, как хороши, как тихи ночи над Днестром, — в рассказах слышалось что-то родное, близкое и знакомое.
Вдруг кто-то сказал:
— А помните, ребята:
Где эта улица, где этот дом,
Где эта барышня, что я влюблен?
И тотчас же все подхватили:
Крутится, вертится шар голубой,
Крутится, вертится над головой…
Длинная цепочка людей — одни в шинелях или гражданских пальто, другие в гимнастерках, третьи просто в госпитальных рубахах, с винтовками или без винтовок, — увязая в снегу, в сером, брезжущем свете утра входила в лес.
Качались носилки. Слышались слабые стоны раненых и резкая команда Гуляева:
— Не отставать!