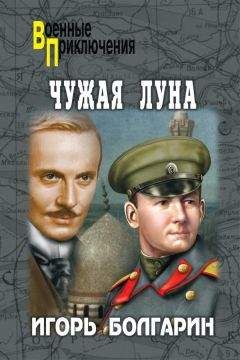И вот эти двое снова вставали на пути Менжинского. Они словно преследовали его. Перейдя на новую работу, он надеялся, что они навсегда исчезли из его жизни. Но не тут-то было: они снова возникли в зоне его профессиональной ответственности, словно играли с ним в прятки. Каких новых неприятностей ждать от них сейчас?
Завершив свое пребывание в западных пограничных районах, Менжинский выехал в Одессу.
Из тюрьмы Ивана Игнатьевича забирал сам Салабуда. На безлюдной ночной улице, под тусклым фонарем, он вынул из кармана револьвер, и так, чтобы видел Иван Игнатьевич, дозарядил барабан патронами и снова спрятал его, но не в карман, а засунул за пояс.
— Че? Боисси? — насмешливо посмотрев на Салабуду, спросил Иван Игнатьевич. — А там, в своей горнице, ты як коршун на курячем подворьи. Шибко боевитый.
— Но-но! Разговорчики! А то враз… при попытке к бегству! — прикрикнул на дьякона Салабуда. — И шагай шире! Плетесси… И руки за спину!
Арестант прибавил шагу, Салабуда, немного поотстав, шел следом.
Иван Игнатьевич задирал голову, разглядывал высокие дома. Такие он видел только в Константинополе. Там они были даже повыше, и на улицах, хоть днем, хоть ночью — всегда было великое множество народу. А здесь, даже не в совсем позднее время, людей почти совсем не было видно. Лишь время от времени мимо проносились пароконные пролетки, обдавая их неземными запахами. В пролетках вместе с мужчинами сидели и женщины с бесстыже оголенными ногами: там, в Константинополе, подобного не увидишь, их прохожие побили бы камнями. А здесь они вели себя непотребно: громко смеялись, что-то выкрикивали, хохотали и на всю сонную улицу орали песни.
Шли долго. С широкой улицы свернули в узкий переулок, где стояла глухая тишина, которую лишь изредка нарушал сонный лай дворовых собак. Прошли через какой-то, тоже пустовавший в эту ночную пору, базар и вышли прямо к знакомым Ивану Игнатьевичу крылатым мраморным чудищам.
В коридоре Салабуда оценивающе оглядел Ивана Игнатьевича, снял с него потертую кроличью шапку, сердито сказал:
— Ты бы хоть волосся чуток пригладил! Выглядишь, як дикобраз!
Что такое дикобразы и как они выглядят, Иван Игнатьевич не знал, но волосы, поплевав на ладони, послушно пригладил.
— Н-да! — неудовлетворенно покачав головой, вздохнул Салабуда, и они пошли вверх по лестнице, где, как помнил Иван Игнатьевич, обитало начальство.
Салабуда робко постучал, почти поскребся в дверь. Из-за нее выглянул Деремешко.
— Так что, доставил, Иван Аврамович! — светясь административным восторгом, шепотом доложил Салабуда, и добавил: — Сопротивлению не оказывал, за исключением словесного неудовольствия.
— Заводи! — велел Деремешко.
— Може, руки… на всякий случай? — все так же шепотом спросил Салабуда. Но Деремешко ничего не ответил, лишь гневно зыркнул на него и шире открыл дверь.
Салабуда взял Ивана Игнатьевича за рукав и протолкнул его впереди себя в кабинет.
За столом, на месте, где прежде сидел начальник, Иван Игнатьевич увидел крепко сбитого, уже немолодого, темнолицего усатого мужчину. Это был Менжинский.
Деремешко, присев под стенкой на крестьянскую деревянную скамейку, сказал:
— Это вот он и есть… — он перевел вопросительный взгляд на Салабуду: — Как его?
— Мотуз, Иван Аврамович! — торопливо подсказал Салабуда.
— Это я — Иван Аврамович. А его как?
— Извиняюсь. Задержанного — Иван Игнатьевич, — и, чуть понизив голос, добавил: — Выдает себя за дьякона. Фамилия, между прочим, тоже подозрительная.
«Видать, еще больший начальник, — украдкой рассматривая Менжинского, подумал Иван Игнатьевич, — Гляди-ко, как перед ним стелются!».
— Ну, здравствуйте, Иван Игнатьевич, — поздоровался Менжинский.
— И вам жить — не тужить, — ответил Иван Игнатьевич.
Менжинский на мгновенье насупился, но тут же громко расхохотался. И похвалил Ивана Игнатьевича:
— Ай, молодец! — и он обернулся к Деремешке. — Вот ведь как! Мы уже стали почти напрочь забывать исконные русские слова. «Здравствуйте» — слово-то многосмысловое. Тут вам и «будьте здоровы» и «живите здоровы, богаты, успешны». А мы в ответ глупость: «привет». Ну, еще как в футболе, в ответ тот же мячик — «Здравствуйте». Прекрасное русское слово стало ничего не выражающим звуком. А Иван Игнатьевич своим ответом напомнил нам, какое оно богатое, это русское приветствие. И какие щедрые ответы оно может вызвать.
Немного помолчав, Менжинский продолжил:
— По дороге в наше время мы много своих хороших, душевных слов растеряли. Будет время, я вам тут рядышком такие перлы покажу. Вот прямо у вас под носом вчера узрел: «Президент дровяного склада». Красиво и не как у всех. А что непонятно — не имеет значения. А «президент» — это, насколько мне помнится, латынь. Если по-русски: председатель. Да и в «председателе» не совсем уверен, что русское слово. Наверное, тоже откуда-то стащили. Ладно, оставим лингвистику, — и Менжинский снова обернулся к Ивану Игнатьевичу: — Спасибо, что напомнили нам добрые русские слова. Откуда вы к нам пожаловали? Где проживаете, какая нужда вас сюда, в Советскую Россию, привела? Я так понимаю, вы не у нас, не здесь, в иных краях обитаете?
— Я не сюды ехал. Мне в Москву надоть. До Его Преосвященства, — ответил Иван Игнатьевич. Он обрадовался, что после долгих дней подозрительного молчания на него наконец обратили внимание.
— До патриарха Тихона, как я понимаю? — спросил самый главный начальник (так определил для себя Иван Игнатьевич Менжинского).
— До его самого, — согласился Иван Игнатьевич.
— Ну, и расскажите нам все по порядку: где живете, как сюда добирались, зачем к патриарху? Все, как есть, рассказывайте, без утайки. Насколько я понимаю, утаивать вам от нас нечего?
— Пущай вон энтот рассказыват, — Иван Игнатьевич сердито, исподлобья указал взглядом на Салабуду. — Я яму уже почитай восемь раз рассказывал, а ему усе мало. Малое дите же могло бы усе запомнить, а он — не.
— А мне интересно вас послушать, — сказал Менжинский. — У вас это лучше получится, красочнее.
Ивану Игнатьевичу понравилось, как уважительно разговаривал с ним этот высокий начальник: тихо, спокойно, без крика. И лицо у него было несухое, и глядел он на него с приязнью.
И Иван Игнатьевич вновь стал подробно рассказывать про смерть попа Иоанна и осиротевшую церковь, про свое село Новую Некрасовку, в котором теперь ни помолиться, ни покреститься, ни исповедаться. Живут люди почти как дикие звери: свадьбы не справляют, в блуде живут, детей не крестят, умерших не отпевают
— И где ж оно находится, это ваше село? — спросил Менжинский. — Название-то русское.
— А то как жа! Оно рассейское и есть. Там мы усе русские, — подтвердил Иван Игнатьевич. — Стоить оно на Гейском мори. А от оны — не верять, — он вновь указал глазами на Салабуду. — Нету, говорять, такого моря. А я в ем кажин день купаюсь и рыбу ловлю.
— Тогда давайте уточним, — предложил Менжинский и раскатал на столе большую географическую карту. — Смотрите, вот Одесса. Это вот Черное море.
— Не, я по картинке не понимаю, — отвернулся от карты Иван Игнатьевич, — Я лучшее своими словами. Як Черное море переплывешь, там уже недалеко.
— Это в Турции, надо понимать? — спросил Менжинский.
— В большости турки, — согласился Иван Игнатьевич. — Други народы тоже водятся, токмо их помельче.
— А Константинополь от вас далеко?
— Ежели пеши, то далеко. Дни три пеши, ежли с ночевой. А можно еще на пароходе, токмо билеты на пароход кусачие.
— Кое-что уже становится понятно, — сказал Менжинский. — Пойдем дальше. Вы где-то здесь обитаете? На Красном море..
— Красно море есть поблизости. Только наше, Гейске, получшее. И теплее, и рыбы поболее.
— Речка поблизости? — склонившись к карте, спросил Менжинский.
— Как жа без речки? Ежли чо постирать, бабы на речку идуть. Тама вода мягка, мыла не надо. И ишшо озеро там, Галькой кличуть.
— Речка Марица, а озеро Гала, — подвел итог своим исследованиям Менжинский.
— Ну да, вы по-ученому. А мы по-простому: речку мы Маричкой прозвали, а озеро Галькой… А так все сходится.
— А скажите, Иван Игнатьевич: вроде там, совсем неподалеку от вас, полуостров есть. Может, слыхали? Галлиполи, называется.
— Ну, как жа! — обрадовался Иван Игнатьевич. Токо турчины его по-своему кличуть: Голуболу. И город есть при таком звании: по-ихнему Голуболу, а по-нашему Галлиполи. Мы в ем по пятницам рыбой торгуем. Од нашего села до их совсем близко: чуток до Дарданелов на конях едем, а там и вплавь не трудно. Баб на ту сторону на лодках торговать отправляем, а сами на своем берегу коней выпасам.
— А почему по пятницам? — спросил Менжинский.
— Дурость, — пожал плечами Иван Игнатьевич. — У турчан все не як у нас. У их другой бог, Аллахом его кличуть. Оны ему по пятницам молются. И ничего по пятницам не робют. А есть-то хочется. От наши им туда еду и привозять. Так в мире и живем. Оны — народ хороший, смирный. Токо обиды не терпят, сразу за кинжал хватаются.