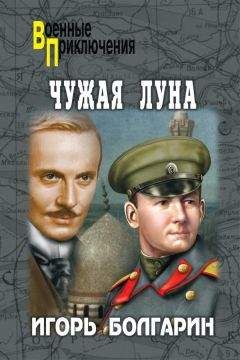— Да кому она нужна эта новая война? — со вздохом качнул головой Деремешко.
— А ты им это скажи.
— Я б сказал. Слова я найду. Да не докричишься.
— И мы примерно так думали. А вот теперь уверен: докричимся. И поможет нам в этом, спасибо тебе, этот твой дьякон. Я его не только с патриархом готов свести, а и с самим Господом Богом. Но не бесплатно. За малую малость. За эту самую тропинку, что выведет наших людей туда, в Галлиполийский лагерь.
— Да что они смогут против тридцати тысяч?
— Говорят, вода камень точит. Для начала передадим туда листовки с амнистией.
— Не поверят. У тех, кто ушел, руки в крови. Против нас воевали.
— Ну, не у всех ведь руки в крови, — возразил Менжинский.
— Каждый скажет: не у меня. Как проверишь? — наступал Деремешко.
— А мы не станем проверять. Поверим. Вернее, простим.
— Подобрели? — нахмурился Деремешко. — Еще земля не всю нашу кровь впитала, а вы уже готовы их простить? А вы у народа спросили?
— А они — тоже народ. И тоже наш, российский, — Менжинский поднялся со своего «начальственного» стула и прошел к длинной лаве, к Деремешко, сел рядом с ним. — Понимаешь, Иван Аврамович: «кровь за кровь» — не наш лозунг, не большевистский. Была война, не все они по своей воле этот кровавый грех на душу приняли. Никто не хочет себе подобного убивать. Кроме разве что отморозков, каннибалов. Но таких единицы. Вот и думай.
Помолчали.
— Оно, конечно. Если всю злобу в людях остудить, тогда, может, что и получится, — задумчиво сказал Деремешко. — А только какие же это надо найти слова, чтоб они поверили?
— Поищем. А если поищем, значит, найдем, — уверенно сказал Менжинский. — Ведь и они, те тридцать тысяч, тоже от нас не пустых слов ждать будут, а таких, чтоб до сердца. Только тогда поверят.
— Не знаю, — после долгого молчания, со вздохом сказал Деремешко — Шибко много злобы в людях накопилось, слова тут не помогут.
— Ты прав. Одними словами тут ничего не сделаешь. — Менжинский положил руку на плечо Деремешке. — Тут совсем недавно мне Феликс Эдмундович рассказывал: Ленин попросил его подумать, как наших хлеборобов обратно в Россию вернуть. Понимаешь, Врангель пока не успокоился. Он надеется зиму в тепле пересидеть, а весною снова в поход. Опять война! Если ее избежим, это и будут те самые главные слова, которые так нужны нашим мужикам-хлеборобам.
— Ваша правда, Вячеслав Рудольфович, — согласился Деремешко. — Кому она нужна, война? Французам, англичанам — нет! Нам? Тем более! Страна разрушена, отстраиваться надо. Земля гуляет, людей кормить нечем. Каждая пара рук — на вес золота. Если, конечно, эти руки неленивые.
И позже, уже в гостинице, Менжинский никак не мог уснуть. Продолжал думать все о том же: удача — удачей, а на самотек все это с Галлиполийским лагерем упускать никак нельзя. Необходимо поручить это дело надежному, толковому и исполнительному человеку.
Вспомнил Загранбюро, созданное в восемнадцатом году Украинским Центральным Комитетом партии большевиков. Ведомство оказалось нужным и, главное, эффективным, полезным. Как бы сейчас оно было к месту! А его по чьему-то недомыслию уже в девятнадцатом упразднили.
Можно было бы серьезно рассчитывать на Стамбульский (Константинопольский) филиал банкирского дома «Жданов и Ко». Но с тех пор как Федотов (он же Фролов) был переведен в Лондон, а затем в Париж, филиал стал потихоньку хиреть. В последнее время им уже почти никто не занимался.
Кто бы мог подумать, что с окончанием Гражданской войны Турция станет средоточием всех относительно состоятельных белогвардейцев? Нуворыши нашли себе пристанище в Париже, Лондоне, Вене, Нью-Йорке, а остальные, в меру сытые, разбрелись по европейским окраинам. Менжинский подумал, что сейчас самое бы время влить новую жизнь в филиал Банкирского дома Жданова в Стамбуле-Константинополе. Он смог бы еще не однажды пригодиться если не советской власти, то уж, наверняка, ВЧК.
И последнее. Надо будет, не откладывая дело в долгий ящик, оказать всяческую помощь этому дьякону и уладить его дела с патриархом Тихоном. Поверим в справедливость российской поговорки: долг платежом красен.
Видимо, надо будет в ближайшее же время, возможно, с этим же дьяконом, отправить в Галлиполи человека с листовками об амнистии. Если все окажется удачным, наши люди смогут постоянно находиться под самым боком у галлиполийцев, а там, возможно, найдут способ связаться и с другими белогвардейскими лагерями и смогут вести среди них постоянную агитационную работу. Раз не получится, второй, но в конечном счете время и добросовестный труд сработают в нашу пользу.
Но кто? Кто бы мог за это дело взяться? Даже не так, потому что откажутся немногие. Но кто наверняка сможет его успешно выполнить?
И память неожиданно подсунула ему фамилию Кольцова. Где он сейчас? Кажется, в Харькове. Ах, как было бы хорошо отыскать его. А еще лучше, если бы он согласился взяться за это дело. А если не согласится, или, возможно, занят каким другим делом, тогда можно обратиться к Дзержинскому: он, безусловно, поможет.
Не откладывая до утра, Менжинский уже глубокой ночью дозвонился до дежурного харьковской ЧК и попросил его во что бы то ни стало и как можно скорее связать его с Кольцовым.
— Кольцов? — В телефонной трубке было слышно, как там, в Харькове, сонный дежурный листает какие-то журнальные фолианты. Наконец он ответил: — Так нет у нас такого. Не значится.
— Ты хорошенько проснись и лучше пролистай свои журналы..
— Ну, смотрю. Кабицкий, Кафтанов, Кирьяков, Кузнецов и Кузьменко. Все. Больше на «К» никого.
— Ладно! Тогда разбуди Манцева.
— Ну вы даете! От так, середь ночи?! Матюкаться будуть!
— А ты скажи: Менжинский еще не спит, и ему не положено.
— Вячеслав Рудольфович, вы? То-то, чую, вроде голос знакомый, а не взнав. Богатым будете. Це я, Калабуха!
— Здравствуй. Калабуха! Кольцов где-то там, у вас. Мне говорили, он где-то там какой-то детский приют организовал, не то детдом?
— Тю, вы этого Кольцова шукаете? Так он же у нас не числится. И потом…
— Ну, что еще?
— Так ихний детдом в Основе. А туда покаместь телефона нету.
— Автомобиль за ним пошлите! Но чтоб к утру он до меня дозвонился!
— Постараюсь! — прокричал в трубку Калабуха. — Для вас, Вячеслав Рудольфович, я и пеши туда сбегаю!
Утром Ивана Игнатьевича разбудил Артем.
— Кончай ночевать, папаша! — заорал он дурным голосом. — Тебе дальняя дорога выпала, а ты дрыхнешь, будто дома, на перине. Собирайсь!
— Мине энто як голому перепоясаться, — слезая с кровати, сказал Иван Игнатьевич. Спал он поверх одеяла, не раздеваясь, но разутый.
Артем посмотрел вокруг, даже заглянул под кровать, но постолов нигде не увидел.
— А обувка твоя где?
— Иде, иде? Иде надо-ть! — он сунул руку под подушку и извлек оттуда завернутые в гостиничное полотенце постолы.
— Ну, ты, дедок, даешь! — изумился Артем.
— Усю ночь хороводились, песни орали, — объяснил Иван Игнатьевич.
— Кто?
— Всяки разны. Думав, дверю сломають, — и он стал обуваться. Делал это тщательно, долго затягивал вокруг холщовых обмоток сыромятные ремешки, хитро вязал узлы. Закончив обуваться, притоптывая, прошелся по номеру. Коротко задержался у зеркала. И снова пошел, запоминающе оглядывая номер.
— Ах ты, мать чесна! — бормотал он себе под нос, и на недоуменный взгляд Артема пояснил: — Скажи, сподобился!
— Ты о чем, дед?
— Об чем? Хоромы! Царски, поди. Никода не думав, шо в таких когда-сь обитать доведеца. Хучь и коротко, да сладко. Мужикам своим поведаю — в жисть не поверять.
На вокзал ехали в автомобиле. Иван Игнатьевич смотрел по сторонам, но особых восторгов и удивления не выказывал. Вылезая из автомобиля, сказал Артему:
— Много народу — и усе разны. А в Константинополе ишшо гуще. И черны, и желты — всяко разны есть. И антомобилей тьма-тьмущая, и усе один на другой не схожи.
К поезду пошли через вокзал, и оказались в самой гуще посадочной кутерьмы. Поезда пока ходили редко, и вагоны приходилось брать штурмом. Проводники до времени не пускали людей в вагоны, и они каким-то чудом забирались на крыши, в надежде позже все же проникнуть если не в сам вагон, то хотя бы в тамбур.
У Артема был документ, называемый литером. По этому документу они имели право ехать в особом, так называемом «командирском» вагоне, возле которого никакой толкучки не было. Но пробиваться к нему пришлось, усиленно работая локтями.
— Ты, дедунь, держись за меня, не то затопчут! — крикнул Артем Ивану Игнатьевичу. И тот старался не отставать от Артема, протискиваясь сквозь толкающуюся, кричащую, осаждающую вагоны толпу.
Потные, измочаленные, с дико и злобно горящими глазами тараня толпу, они наконец пробились к «командирскому» вагону. Здесь, охраняемый двумя часовыми, был оазис тишины и покоя.