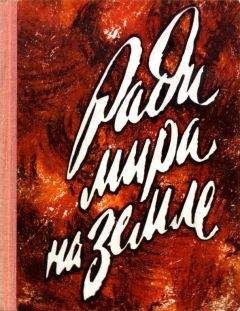Сегодня снова отчетливо припомнилось Лазареву торжество того дня. Ему, начальнику цеха, присвоили звание «Ветеран завода». Волновался не меньше, чем в памятном сорок третьем, когда получил свой первый боевой орден. Вот и захотелось побыть одному, вспомнить прошлое, подумать о будущем.
Такой же осенней ночью в последний раз шел по улицам города Миша Лазарев, прощаясь с мирной жизнью и своей короткой юностью. А наутро — трудное расставание с матерью. Навсегда запомнились ее тоскующие глаза и дрожащие руки. Она гладила его волнистые волосы, а крупные слезы капали на шею, стекали за ворот любимой его сиреневой рубахи.
— Ты погоди, мать, — отец с грубоватой бережливостью усадил ее на лавку. — Садись и ты, Михаил, — впервые по-взрослому назвал он сына. — Посидим по старине перед твоей дальней дорогой. А ты того, мать… Перестань слезы-то лить. Авось, обойдется. Не всех же убивают на войне.
В Уральский добровольческий танковый корпус, куда мечтал попасть, Михаила не взяли. Его направили в пехотное училище. Но уже через три месяца сержант Лазарев был на Курской дуге.
— Вот что, уралец, будешь помощником командира взвода у Томилина, — сказал ротный. — Топай вон за тот бугорок. Там найдешь свой взвод.
Младший лейтенант Томилин оказался, пожалуй, помоложе Лазарева. Но вояка был обстрелянный: на груди красовались две медали и орден Красной Звезды.
— Видишь, окопы завалило и блиндаж в лепешку дальнобойкой смяло, — сразу же встретил как старого знакомого Михаила. — Во взводе осталось тринадцать человек, если считать тебя. Счастливое число.
Взводный сплюнул, притоптал окурок и опять полез за кисетом. Светлая прядка шелковистых волос задорным хохолком выбивалась из-под пилотки. И он напомнил Лазареву соседского петуха: задиристый был петух, драчливый. Бывало, и на собачонку нападал, если та осмеливалась к нему близко подойти. Невольно усмехнулся сравнению.
— Нашел место для улыбочек, — пыхнул цигаркой взводный. — С утра, говорю, опять фашист попрет.
— Надо встретить, если попрет, — в тон ответил Лазарев.
— Вот это по-нашенски! И я так думаю. Давай-ка, брат, бери людей да за лопаты.
…На рассвете степь загудела тысячами танковых моторов и самоходок, а небо — надрывным воем сотен самолетов. От грохота разрывов, воя бомб и свиста осколков вздрагивала земля, глохли люди.
— Не робь, уралец, — кричал в ухо Томилин. — Живы будем, не помрем!
Эту убежденность, эту веру в себя на всю жизнь перенял от первого своего боевого командира и пронес через все фронты Михаил Лазарев.
А немного позже, подчиняясь призывным словам команды, словно подброшенный невидимой пружиной, взметнулся Лазарев над бруствером окопа вслед за Томилиным. За ними — остальные бойцы взвода. Земля обдавала их горячим дыханием разрывов, а они бежали навстречу танкам с паучьими лапами свастики на пятнистой броне.
Механически Лазарев делал все так, как его товарищи. Бежал, задыхаясь от пыли, и что-то кричал. Слышал ли он сам яростное «ура!», слышали ли другие солдаты, он не знал. Видел только впереди командира и старался не отставать от него. Потом случилось неожиданное.
Томилин будто ударился о невидимую преграду: стал валиться навзничь к ногам подоспевшего Лазарева. Смерть, неожиданная и страшная, своей нелепостью поразила. Он ошалело глядел на человека, который минуту назад двигался, жил. И вот его не стало. Холодная ярость наполняла сердце. Подняв над головой автомат, приготовив гранату, Лазарев обернулся к товарищам:
— За мной, вперед! Ура-а…
А дальше было как в страшном сне. Он плохо помнил, как мчался вдоль балки навстречу «фердинандам» и «тиграм», как захлебнулась контратака гвардейцев. Обескровленный полк медленно отходил, огрызаясь огнем, к своим основным позициям. Лазарев остался с горсткой бойцов прикрывать отход своей роты. Сколько времени лежал он за пулеметом? Может быть, час, а может, вечность. День померк еще с утра, солнце скрылось за огромной тучей огня и пыли, дыма и смрада.
…Михаил вместе с шестерыми солдатами — это все, кто остался от взвода, — сидел, скрючившись, на дне глубокой воронки и думал, сколько они продержатся, когда немцы пойдут снова в атаку.
Фашисты появились слишком неожиданно. Они окружили воронку, стали забрасывать гвардейцев гранатами. Мелкие жалящие осколки впивались в тело, рвали его, но люди из последних сил продолжали отбиваться. Близкий разрыв снаряда, грохот лязгающих гусениц — всего этого не слышал ни Лазарев, ни его бойцы.
Очнулся Лазарев после тяжелой контузии дней через десять в полевом лазарете. Долго не мог понять, где он и что с ним произошло. Постепенно возвращался слух, стал лучше видеть. Палатная сестричка терпеливо обучала его произносить, не заикаясь, слова.
— Ты не просто говори, а вроде бы пой. — И заставляла вслед за собой нараспев повторять:
— Ма-ня, А-ня, Са-ня…
— Будто заново народился, — смущенно улыбался Лазарев. — И ходить, наверное, разучился.
Молодость взяла свое: Михаил Лазарев с тощим солдатским «сидором» за плечами сел в эшелон и с маршевым батальоном направился на фронт. Опять нелегкие дороги, опять бои, опять ранение. Из госпиталя домой писал, что все хорошо, он направлен в командировку и, может быть, на обратном пути заедет навестить их, своих родных. Только после войны узнал, что его хитрость дома сразу же разгадали, но виду не показали: пусть думает, будто ему поверили.
Но случилось так, что Лазарев действительно поехал в тыл. Это было в сорок третьем, когда его, командира взвода, командование дивизии направило на курсы младших лейтенантов. Вскоре Лазарев командовал ротой на 2-м Прибалтийском. Война и свела его здесь с комбатом Иваном Моисеевичем Третьяком. Было им тогда по двадцать одному году. И фронтовые судьбы во многом схожи. Боевые ордена на груди, оба отчаянной храбрости, недюжинной военной сметки. В ту зиму 1943 года на литовской земле шли кровопролитные бои. Советские войска приближались к логову фашизма, границам Восточной Пруссии.
…Потрескивали в жестяной печурке дрова. То и дело зуммерил полевой телефон. Гвардии майор Иван Третьяк усталым голосом отвечал «Девятому»:
— Послать некого, люди измотаны, валятся от усталости…
Брови Третьяка тревожно взметнулись к переносице.
— Лазарева? Его рота еще не вышла из боя. Оттянуть и бросить на прорыв? Но это же лучший комроты на весь полк! Разрешите, я сам поведу солдат… Есть!
Третьяк с досадой бросает трубку.
— Ничего, брат, не попишешь, — мысленно обращается к Лазареву. — Приказы надо выполнять.
Машинально передвинул планшетку — ее оставил на сохранность Лазарев. В ней вырезки из фронтовых газет, несколько фотокарточек. На одной из них группа советских офицеров на фоне блиндажа. На первом плане — молодой, смешливый лейтенант. Грудь украшена боевыми наградами. Такой же молодой майор прикрепляет еще один орден к гимнастерке лейтенанта.
На оборотной стороне карточки — «2-й Прибалтийский фронт. Гвардии майор Третьяк вручает правительственную награду гвардии лейтенанту Лазареву».
Торопливые строчки фронтового корреспондента повествуют:
«Михаил Лазарев — лучший из всего полка командир роты. Его бойцы всегда впереди. На днях они захватили два вражеских орудия и много пленных солдат. Сам Лазарев, будучи ранен, не покинул поля боя».
Да разве все можно описать в газетах? Третьяк вздыхает.
— Связного от роты Лазарева ко мне!
И вручает пакет с приказом — роте Лазарева, усиленной восемью танками, идти на острие частей полка, идти на прорыв, к Балтийскому морю.
Первая линия окопов была преодолена быстро и сравнительно легко. Зато потом, увидев, насколько малочисленна эта группа прорыва, фашисты опомнились и открыли ураганный огонь. Атака захлебнулась, но рота Лазарева, посаженная на танки, продолжала пробиваться вперед. В пылу боя Михаил не сразу понял, что оказался в глубоком тылу врага.
— Продолжаю движение вперед, — сообщил по рации комбату.
— Не зарывайся, Миша, — предупредил Третьяк, хорошо понимая, что вряд ли теперь помогут Лазареву его советы.
А рота тем временем, сея панику среди тыловых частей гитлеровцев, продвинулась на восемьдесят километров, заняла деревню и подготовилась к боям в условиях круговой обороны.
Трое суток беспрерывно атаковали гитлеровцы позиции гвардейцев. Казалось, не осталось живой души в деревне. Но стоило атакующим подойти ближе к развалинам домов, их встречали огнем автоматов и пулеметов. С воздуха были разбомблены танки, подавлены артиллерией пулеметные гнезда, перебиты защитники гарнизона. Бойцы перестали узнавать друг друга, черные, грязные, обросшие, они еле держались на ногах. Но столько неуемной ненависти было в их глазах, столько неукротимой силы! Они хорошо понимали, что живыми им отсюда не уйти, и старались как можно дороже отдать свою жизнь.