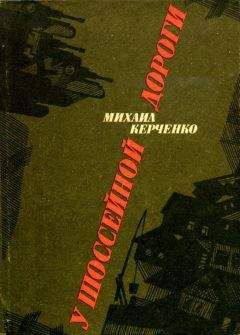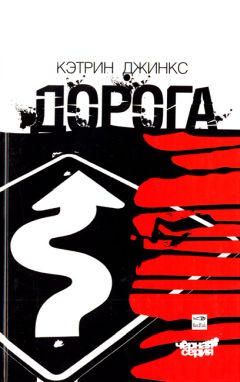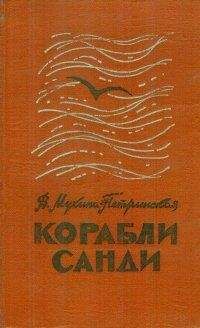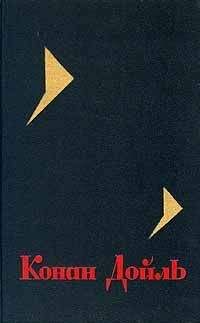— Где шапер?
— В кухне, — говорю. — Иди туда.
Он шагнул через порог, и в этот момент перед моим носом кто-то захлопнул дверь. Я осталась в сенях. Там в кухне опять зазвучали сердитые отрывистые немецкие голоса:
— Хенде хох!
Началось, думаю.
Я выбежала во двор. К ограде подкатили два больших грузовика, в них сидели немецкие солдаты в касках, с автоматами в руках. Они кого-то ждали. Уж не Клауса ли Штельцера?
Ну, все! Погибли. Сейчас заберут Егора Ивановича. Я бросилась в землянку. Хорошо, что нет детей, спастись можно. Шло время. Я из-за угла посматривала на сени, откуда должен же наконец кто-то появиться. И появились. Вышел Клаус Штельцер, он нетвердо и неуверенно переставлял ноги, рядом в мундире немецкого офицера шагал Егор Иванович. Сзади трое. Они сели в легковую. За рулем, я заметила, очутился Егор Иванович. Машина тронулась. За нею по шоссе помчались два грузовика с автоматчиками. Как я потом узнала, это были переодетые партизаны. У Штельцера не было другого выбора. Под угрозой расстрела он пропустил партизан на территорию военной базы. Охрану разоружили и расстреляли, склад с боеприпасами взорвали. Ни один немец не ушел живым. Взрыв потряс все вокруг.
В тот же день, после обеда, люди видели, как «пьяный» Егор Иванович шел по деревне и напевал какую-то песню. «Этому война нипочем», — говорили люди. Прошел слух, что большой отряд партизан окружил базу, взорвал ее и скрылся в лесу. Егор Иванович еще несколько дней починял сапоги, а потом куда-то ушел. Никто ни в чем его не подозревал. Меня немцы не тревожили. Они были заняты поисками партизан.
Минула зима. Тяжелой, длинной и тоскливой показалась она. На меня одна беда наваливалась за другой. Моего старшего брата и других односельчан забрали и отправили в лагерь верст за десять от Болотного поселка. Загнали их в бывшую колхозную конюшню. Там они и жили, как скот. У брата здоровье было плохое, и я боялась, как бы чего с ним не случилось. Он кашлял, жаловался на боли в желудке. Ну, думаю, свалится там, погибнет. Тело выбросят в ров, обольют керосином и сожгут. Так делали немцы. У кого родные поблизости, те получали поддержку: им приносили кое-что съестное. Пошла я к куме Ульяше. Ее сын служил у немцев переводчиком и писарем и был связан с партизанами. Нельзя ли, думаю, через него чем-нибудь помочь братику. Захожу в избу к Ульяше, в углу на скамье две соседки сидят, судачат, как дальше жить. Не будешь же при них говорить, зачем пришла.
— Садись, Ариша, — пригласила хозяйка.
Не успела я присесть, как бежит за мной средний сын Ванюшка, ревет благим матом. Так ревет, как будто его кто режет.
— Мам, Петю, братика Петю убили около хаты! — выкрикнул он.
— Кто убил? За что? Немцы?
Он кивает головой. Я схватилась за сердце и повалилась на пол. Забегали вокруг меня бабы, водой облили. Нашатырного спирта дали понюхать. Нет-нет и очнулась, пришла в себя. Слышу, как сквозь стену, бабы спрашивают у мальчонки:
— Вань, насовсем убили твоего братца-то?
— Без памяти ползает по земле. Кровь течет изо рта и ушей. Никого не узнает.
— Ну, Ариша, бежим туда все!
Прибежала я к своей хате и вижу: мой мальчик лежит на земле, не шевелится, чуть дышит. Весь в синяках и крови. Не лицо, а сплошная головешка, губы почернели, опухли. Упала я около него на колени, заголосила:
— Ах вы, кровопийцы! И старых бьете, и малых бьете. Доколь же вы будете по нашей земле ходить?
Бабы сдерживают меня: молчи, Ариша, расстреляют тебя.
Сынок застонал. Егор Иванович помог мне занести его в хату, на кровать положить. Обмыли лицо, дали воды и какого-то лекарства. Заглянула я под рубашку, а там живого места нет, весь в синяках. Вряд ли выживет, думаю, наверное, и легкие отбили, и почки, и ребра переломали. Сижу и плачу горькими слезами. Куда пойдешь, кому пожалуешься?
— Не плачь, мать. Недолго им теперь ходить по нашей земле, — успокаивает меня Егор Иванович. — Потерпи!
— Кто тебя, Петя? — спрашиваю. А он не может глаз открыть. — Кто его, Ванюша?
— Финны, мам. Подъехали к нам вершнем, насыпали жито в большое круглое решето и сунули Пете в руки: «Держи, пусть едят лошади». Петя не мог удержать, у него ведь сил нет, и уронил решето на землю. Подбежали финны и начали колотить его, бить, пинками по голове. Один за наган схватился, да поляк, постовой, подоспел, не дал стрелять.
Каждое утро я выходила из хаты и смотрела на восток: своих ждала. А по шоссе все шли и шли немецкие войска, машины с солдатами, и танки, и мотоциклы, и пушки.
Каждое утро видела постового у моста, а за мостом дорожный каток. Каждую минуту я ждала беды. Откуда она придет, как от нее спастись — не знала. Но бесконечно верила, что наступит светлый день, придут наши, и счастлив будет тот, кто останется в живых.
Партизаны заминировали шоссе и сделали засаду. Много там погибло гитлеровцев. И вот смотрю в окно: ползет ко мне кривоногий староста с немцем. Зачем это они прутся? Не за Егором ли Ивановичем? Но его не было дома уже целую неделю.
— Ариша, знаешь зачем я пришел? — спросил староста.
— За моей душой, наверное, Василь Васильевич. Ты с добром не приходишь.
— Помалкивай. Давай нам своего, старшего парнишку. Быстрей давай.
— Зачем он тебе? Детской крови захотел? Глянь: он болеет. Пластом лежит, пошевелиться не может, кровью харкает. Чуть не убили финны.
— Тогда среднего давай. Пусть запрягает свою лошадь в бороны и едет по шоссе, мины ищет. Партизаны их наставили. У тебя лошадь, вот ты запрягай ее.
— Василь Василич, — говорю старосте, — что вы делаете? Вы же сгубите ребенка. Ты почему своего не посылаешь?
Подорвется мой на минах, думаю. Лучше я пойду. Все равно погибать. Посуди сам, милый племянничек: какая мать отправит свое дитя на смерть!
— Давай, давай, матка! — поторапливает немец, что пришел со старостой.
Обняла я сынишку и плачу. И дети ревут. Если Ванечка пойдет — не вернется, я пойду — тоже, дети сиротами останутся. Кто их будет кормить, поить? С голоду умрут.
— Сынок мой, что нам делать? — спрашиваю.
— Я пойду, мам, — отвечает Ваня, как взрослый. — Я пойду и вернусь живым. Вот увидишь. Не горюй. — А сам глаза от меня прячет.
Тут появился усатый поляк, что мост охраняет. Я к нему: что делать, пан солдат?
— Не бойся, матка, не бойся. Недавно прошли саперы с миноискателями. Проверили дорогу. Все будет хорошо. Свяжи двое вожжей, чтобы они были как можно длинней.
А потом подозвал Ваню.
— Если зашипит мина, то быстро ложись в канаву или падай под откос.
Отыскали мы в сарае несколько веревок, связали. Лошадь запрягли в борону, вывели на шоссе. Ваня взялся за вожжи, посмотрел на меня, словно прощался, но не заревел.
— Но-о-о, трогай, Сивый! Мам, не плачь, мне легче будет. Не плачь! Прошу тебя, ради бога, мамочка.
Хотела бежать за ним, а ноги не двигаются. Дыхания не хватает. Тащится хромоногий конь по шоссе, за ним борона поднимает пыль, сзади метрах в пятнадцати, уцепившись за вожжи, ковыляет ребенок, кровинка моя. А еще поодаль — немец с автоматом. Отправила я сына на гибель. Иду следом, смотрю на борону и каждую секунду жду взрыва, каждую секунду хочется крикнуть: «Ложись, Ваня!» Вся сжалась в один комок, нервы напружинились. Сердце тоже готово взорваться, как мина: туки-туки, отсчитывает… Не помню, сколько шла. Голова закружилась, и я грохнулась на шоссе, как мешок с мукой. Немец Шульц, что ездил на дорожном катке, поднял меня, привез к хате, посадил на завалинку. Я сидела и ждала. Петя стонал в хате, а Коля, самый младший, прижался ко мне и тоже молча ждал. Это были уже не дети, а старики. Они знали, что такое смерть.
Ваня с лошадью скрылся вдали за лесом, как будто его никогда и не было. Все вокруг казалось каким-то дурным сном. С тех пор, как в нашей деревне появились немцы, я, проснувшись ночью, в тишине думала, неужто это все правда? Наверное, мне во сне весь этот ужас примерещился и никаких гитлеровцев нет. А иногда думала по-иному: та хорошая мирная жизнь, что осталась в моей памяти, когда мы спокойно работали, отдыхали, веселились, — та жизнь была во сне.
Залезла я на чердачную лестницу, смотрю вдаль: ничего не видно — ни коня, ни Вани, ни немца с автоматом. Как сквозь землю провалились.
— Мам, слазь, а то упадешь, — кричит Коля.
Постовой поляк не выдержал и тоже подошел, молча сел на завалинку, то и дело посматривая на часы. Около моей хаты собрались женщины, тихо переговаривались, как будто у нас покойник. Так прошло, часа три, стало уже вечереть.
— Взрыва не было, — сказал поляк. — Я не слышал, значит, все в порядке. Скоро твой мальчик вернется. Не беспокойся.
— Ой, пан Вишневский, вернется ли?
— Вернется, не горюй, — подбадривал он. — Что зря отчаиваться.
В этот момент вдали за лесом что-то ахнуло, взорвалось. Поляк даже очки напялил на нос, смотрит на дорогу. Сорвалась я с места, забыла обо всем и побежала по шоссе. Откуда и силы взялись. Бегу и думаю: может, он еще жив, может, он кровью истекает, надо помочь ему. Бегу, а в глазах белые мотыльки кружатся. Из-за поворота кто-то показался верхом на лошади. Не верю глазам своим.